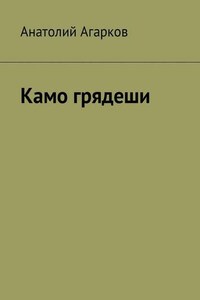– Лака-Вака-Шоколака! Лака-Вака-Шоколака!
Толстый грек, торгующий выпечкой, вытер тыльной стороной ладони пот с широкой лысины и с укоризной посмотрел на меня. Было начало мая, и маленький каменистый пляж, потерявшийся в компании с деревушкой под трогательным названием Плака среди горных распадков восточного Крита, пустовал. На заботливо расставленных лежаках помимо меня отдыхали две молодые девушки, да приветливый хозяин пляжного кафетерия натужно раскуривал длинную трубку на крыльце заведения. Торговец выпечкой, убедившись, что покупателей не будет, набросил на свои пончики марлю, спасающую выпечку от мух, сноровисто подхватил небольшой деревянный прилавок и, бросив на меня еще один взгляд, неторопливо двинулся вдоль кромки моря.
– Ничего, мой друг! Потерпи пару-тройку недель, и к тебе еще выстроится очередь из шебутных немецких ребятишек, – захотел сказать я ему, но грек уже был далеко. Он направлялся к пирсу, откуда несколько раз в день небольшие туристические катера доставляли любопытных туристов на достопримечательный островок, воткнутый на выходе из залива.
Одна из девушек, решив, что пришло время окунуться, прошла мимо меня к деревянным мосткам, которые помогали пляжникам, минуя скользкие камни, сразу оказываться в воде. Девушка бросила на меня чуть недовольный взгляд: словно восьмидесятилетний старик (хотя на спор мне давали максимум 65) одним своим видом обманывал все ее радужные ожидания от отдыха. Мягкой улыбкой я попытался внушить ей, что расстраиваться не стоит и впереди ее ждет множество приятных встреч. После чего вернулся к своим мыслям.
В последнее время, оставаясь наедине с собой, я без конца терзал себя одним и тем же вопросом, словно педантичный педагог, поставивший цель либо завалить легкомысленного студента на экзамене, либо сделать из него достойного человека.
О чем моя жизнь? О чем все ее повороты, так тесно связанные с поворотами ХХ века, вместившего в себя и небывалый прогресс, приблизивший человека к звездам, и разрушительные войны, и новое осмысление самого человека и места его на Земле? Век, приютивший целый город художников, но нашедший место для правителей, пришедших к нам из самого мрачного Средневековья. Какой уникальный опыт дала мне жизнь, что даже своим детям и внукам я рассказываю только маленькую толику случившегося со мной. Да и то пытаюсь припудрить, причесать, одеть в белые одежды. Да и чем моя жизнь так уж сильно отличается от судьбы того же торговца сладкими пончиками, который без устали меряет греческие пляжи своими загорелыми ногами?
Я знаю, что, будь я верующим человеком, мне было бы много проще. Но так вышло, что хоть мой путь и начинался в буддийском монастыре, а затем пролегал мимо храмов, синагог да мечетей, я так и не заворачивал в них. И как бы я ни хотел остановиться, зайти, помолчать, поглазеть на образа, попытаться поймать и почувствовать тот легкий трепет в груди, про который мне так красочно рассказывали многие мои товарищи, всё на это не хватало времени. Так что нет у меня возможности сослаться на неисповедимые пути, о чем я, собственно, и не жалею. Более того: зачастую ловлю себя на мысли, которая верующему покажется богохульной. Тем опытом, который есть у меня, полезным и бесполезным: теми странствиями по всем континентам, теми друзьями и женщинами, бывшими у меня, наконец, своей семьей, я не хочу делиться ни с кем. Ни с дьяволом, ни с Богом.
В поисках ответа в моей голове роились многочисленные формулировки, штампы, заимствованные из разного рода и качества литературы. Я сравнивал свою жизнь с животным и растительным миром, перетаскивал ее со всем содержимым на бескрайнее звездное небо, но только для того, чтобы со следующим пульсом мысли закопать глубоко в землю. Иные ответы на короткий промежуток времени устраивали меня, но только для того, чтобы вскоре, разломав и разбив все старательно подобранные доводы, отправиться в дальнейшее путешествие.
Первые годы своей жизни я знаю лишь со слов первого наставника, морщинистого монаха буддийского монастыря, в котором вырос. Меня, маленького кричащего младенца нескольких месяцев отроду, нашли в плетеной люльке на берегу горного ручья. Из приданого была только ситцевая простыня, православный крест да маленький серебряный медальон с вензелями на невиданном здесь языке. Кто меня там оставил и сколько времени я надрывался, требуя еды и воды, монах не знал. Да и я, впоследствии изучивший свои корни вдоль и поперек, могу только догадываться. Хотел ли бросивший меня человек, чтобы я попал к монахам, – тогда почему он не отнес меня к воротам монастыря и не оставил там посреди ночи, как поступали многие? Думаю, что в какой-то момент я стал для него непосильной ношей и он, поддавшись порыву, попрощался со мной, чтобы продолжить свой тяжкий путь в одиночку.
А пока что меня принесли в монастырь, который, на мою первую в этой жизни удачу, служил приютом для таких же обездоленных детей. Часть из них, как я уже говорил, попросту подкидывали к воротам. Иных родители приводили за руку. Люди, живущие в деревушках окрест монастыря, кормились землей, и каждый неурожайный год добавлял в этот мир десяток-другой верующих в неизменность души.
Когда мне было три года, мир потихоньку начал поворачиваться ко мне лицом. Как сейчас я вижу небольшую темную комнату, деревянные кровати, худые лица мальчишек, с которыми я делил чашку риса на завтрак и ужин. Вижу наш монастырь: храм с восседающим на каменном постаменте Буддой, небольшой двор, украшенный медным гонгом, большие деревянные ворота, вечно полуоткрытые. Вижу хоровод горных вершин вокруг монастыря. Помню наших монахов-наставников, неизменных на протяжении многих лет.
– Фадьях, иди есть! Фадьях, иди спать!
Помню, что собратья мои по монастырской судьбе дружно и не сговариваясь невзлюбили меня. Поначалу дети старательно меня избегали, сторонились, не принимали в свои незамысловатые игры. Никто со мной не разговаривал, а если я заводил разговор первым, отворачивались от меня. Когда в монастыре появлялся новичок нашего возраста, то ровесники считали своим долгом первым делом объяснить ему, как ему надо вести себя со мной – не здороваться, не играть и по возможности держаться подальше. Я страдал от этой ничем не обоснованной вражды, но самое сложное ждало меня впереди. Спустя какое-то время детям показалось недостаточно лишать меня общения: каждый прибывший в монастырь мальчик должен был пройти испытание, придуманное местным заводилой, которого звали Тян. Тян объяснял мальчику, что если он хочет быть своим в компании и дружить с другими детьми, он должен до крови подраться со мной. Прибывшему ничего не оставалось, как подойти ко мне и завязать драку. На тот момент я был слабее многих сверстников, и чаще всего новичок здорово избивал меня. Если же по каким-то причинам я одерживал вверх, то к драке подключались другие дети. Таким образом, я вечно оставался в проигрыше.