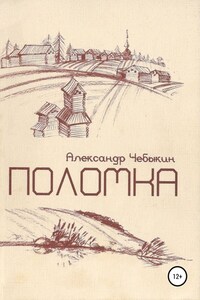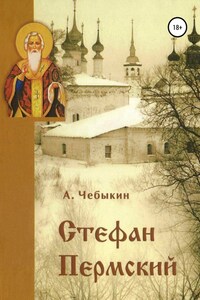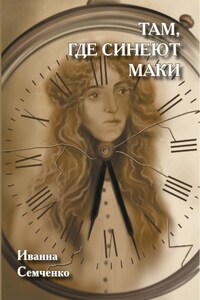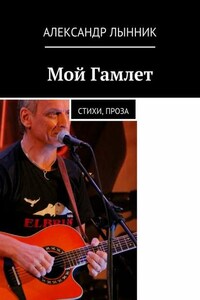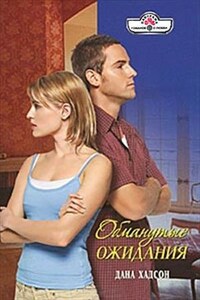Калине Чебыкину за участие в передаче пугачевским повстанцам шести пушек объявили приговор – ссылка на поселение. Калину привезли на косогор верхом на лошади с мешком на голове, чтобы не запомнил дорогу.
Оставили лопату, топор, пешню, соль, серные спички, полмешка ржи и котомку сухарей.
Кругом на десятки километров простирался лес, где-то далеко на востоке вниз по реке поднимались над лесом дымки. Вершина косогора была голой, с несколькими кустиками можжевельника.
Калина – долговязый парень, лет двадцати пяти, с тонкой шеей, но крепким торсом, с оспинками металла на лице, светло-голубыми глазами, русоголовый – осмотрелся. Спуски на восток и юг были круты, на запад – положе, позади поднимался увал. На разном уровне из-под вершины угора били ключи. Выбрал западную сторону. На гривке, под липой, вырыл землянку. Хотелось, чтобы на закате, сидя на завалинке, солнышко упиралось в грудь.
На южном и восточном склоне выжег лес и у каждого пенька, отгребая золу, пешней наделал лунок, побросал зерна ржи и присыпал теплой после дождя землей. Таскал воду липовым ведром и поливал всходы. В середине лета у каждого пенька можно было нажать огромный сноп ржи. До свежего урожая питался, чем мог. Ставил силки, ловил в густой траве тетеревов, в речушке ловил рыбу мордой, сплетенной из ивовых прутьев. К осени был со свежим хлебом. По первому снегу пошел искать ближайшее жилье.
Перейдя речушку и пройдя по глубокому оврагу вверх, вышел на косогор, увидел впереди вспаханные поля, покрытые тонким снегом, справа, у кромки леса, две группы домиков на расстоянии друг от друга чуть более километра. Зашел в первый дом, хозяева были дома, солили капусту. Рассказал о себе. Посудачили. Хозяин, рыжебородый старик, пояснил, что знает обо всем этом. Еще осенью пристав предупредил, кто поселен за Илимовой горой, на Верхнегорском угоре.
Сказали, что та сторона относится к Григорьевской волости, а эта к Карагайской. Во дворе сука играла с двумя крупными щенками. Попросил пятнистого. Дед обрадовался – внуки оставили двоих, а куда их сейчас, на зиму глядя. Назвал его Дашей, хотя это был кобель, он верой и правдой служил ему долгие годы.
Вернулся домой, прибрал зерно, подпер дверь и отправился искать дорогу в село Григорьевское. До деревни Кобылий мыс шел чащобой, а далее была ладная дорога. Нашел в селе пристава, объяснил кто, тот сказал: «А мы думали, что ты убег». На что Калина ответил: «Куда бежать, на заводе знают, что мне ссылка, родители давно умерли, родня из заводского поселка после восстания разъехалась кто куда».
Пристав посоветовал: «Женись, заводи детей, раз ссыльный, то налогов с тебя никаких, выкорчевывай, очищай лес, делай пашню и живи».
Зиму проработал на медеплавильном заводе. К весне потянуло на свой косогор. На заработанные деньги купил лошадь, кое-какую сбрую. Сам был мастер на все руки. Соорудил плавильню и кузню. Руды на горе, в лесу было полно. Наделал инструмента. Рядом с землянкой, у ручья, срубил новый дом. Но с женитьбой дело застопорилось. С округи девки не шли, знали, что ссыльный, боялись. На пятом году, когда стукнуло тридцать, весной приехал на базар, в Карагай.
Увидел, как пьяный, с реденькой бороденкой, подслеповатый мужик вожжами по лицу стегал свою молодую, полногрудую, красивую жену, костерил ее при всех. После чего связал бабе руки сзади, запихнул на возок, а сам подался в бражную. Какая-то сила подтолкнула Калину, подбежал к телеге, припал к бабе и тихо сказал: «Поедешь ко мне?» Она взглянула на него и увидела в его глазах доверие и отчаяние. Ответила: «Развяжи руки, где твой воз?» Калина схватил в беремя, пронес меж возов к коновязи, где стоял его Серко. Приподнял, посадил впереди облучья и рысью выехал с ярмарки. Когда съехали с езжалой дороги на тропу в березняк, Калина спросил:
– Звать-то как?
– Устинья.
– А меня Калина.
Жили душа в душу.
Рожала Устинья каждый год сыновей, но все рождались мертвые, может, от того, что первый муж-изверг сильно бил ее, а может, что другое, только на десятый год родила крепкого здорового парня.
А сама слегла и больше не вставала, а через год ее не стало. Калина растил парня один, малого кормил через рог коровьим молоком да пресной брагой. Федос вырос на загляденье: крепким, сильным, красивым. У Федоса рождались тоже только парни, из двенадцати до совершеннолетия дотянули только трое: Григорий, Михаил, Иван. Иван был последним, вымахал – косая сажень, два с половиной аршина без двух вершков. Голубоглаз, вихри, как сноп ржи, силищи неимоверной. На мельнице хватал два шестипудовых мешка подмышки и тащил их по мостикам наверх, для засыпки. Когда подрос, то отцу заявил: «Не хочу жить в дымной избе, срублю себе, как у писаря в селе». И сладил избу десять на десять с большими окнами, огромной печью посередине, железной трубой. Для нижнего оклада навозил лиственницу, и через сто пятьдесят лет, когда пробовали распилить эти бревна, от зубов пилы «Дружба» летели искры. Дерево закремнело. Когда весной во время пахоты отец не стал давать лошадь, то он привязывал десятиметровые бревна к передку телеги и таскал их с горы из леса. Если на Троицу, когда парни выходили стенка на стенку и на кулаках проверяли силу и удаль, втесывались пьяные мужики и начиналась беготня с кольями, то бежали звать Ивана, чтобы унять и успокоить буянов. Иван брал витень с длинным ременным опоясом, широко размахивался по ногам, резко дергал на себя и сразу два-три мужика падали навзничь. Кто-нибудь кричал: «Иван пришел!» Свалку как ветром сдувало. Кто прятался в крапиву, кто застревал в огородном прясле, помоложе белкой взлетали на липы и березы. Иван становился посреди хоровода и просил: «Ну-ка, девоньки, во лузях». С полчаса шел хоровод, но какое веселье без мужской половины. Иван понимал это, махал рукой, хоровод раздвигался. Иван зычным голосом: «Ну, где виноватые?!» Из-под рассадников, из-за углов подходили к Ивану, били земной поклон, просили прощения. Зачинщиков свары Иван знал, обычно это были одни и те же мужики.