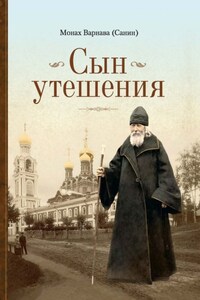«Старец». Поэма, или повесть в стихах
Перед блокадой Ленинграда
В спасительный и мирный тыл
Из начинавшегося ада
Последний поезд уходил.
Пар поднимая над перроном,
Пыхтел надсадно паровоз.
Звучал приказ: «По эшелонам!»
Жгла щеки боль прощальных слез…
А через весь огромный город
С еще не знавшими людьми,
Что впереди – бомбежки, голод,
Спешила женщина с детьми.
Она шагала все быстрее,
Доверясь чувству одному:
Бежать из города скорее,
Сама не зная почему…
И шла, не слушая советов.
На что надеялась она
Без пропусков и без билетов
В то время, как вокруг война?
Груз – чемодан с тремя узлами.
Точней, с двумя: один, спеша,
Пришлось оставить дома маме,
Чтоб взять на руки малыша.
Потом устала и малышка —
Трехлетняя больная дочь,
И хорошо еще сынишка
Шел сам и даже мог помочь…
Откуда прибавлялась сила?
Она бежала на трамвай
И только старшего просила:
– Не отставай!.. Не отставай!..
Глава 1. Пятьдесят на пятьдесят
Нехорошо подслушивать чужие разговоры. Даже если они касаются тебя лично. Но тут из приоткрытой двери заведующего хирургическим отделением послышалось такое, что я, проходя по коридору мимо, невольно приостановился.
– Завтра две операции, – говорил заведующий. – Первая – ничего сложного. А что касается старшего лейтенанта, здесь, как говорится, пятьдесят на пятьдесят! – Вот тогда подошвы моих больничных тапочек и приросли к полу. – Сама операция не столь опасная – на щитовидке, но сердце несколько месяцев проработало в таком жутком режиме, что у меня нет уверенности, сможет ли оно выдержать до конца. Но мы, конечно, насколько смогли, подкрепили его и, как говорится, будем надеяться на лучшее.
Нужно ли говорить, как я провел ту ночь – может, последнюю в моей жизни… Самым страшным было даже не то, что я могу умереть, а что навечно лишусь своего родного, единственного, неповторимого «я»! Откуда я, представитель третьего поколения людей, из которых выколачивались последние остатки веры предков, мог знать тогда о том, что смерть не конец, а только начало?
Утром в операционной я сразу увидел хирурга[1]. Он стоял у окна, скрестив на груди руки. Улыбаясь, словно нам предстояла приятная беседа, он взглянул на меня.
– Скажите, Георгий Иванович, – каким-то не совсем своим голосом выдавил из себя я. – А это надолго?
– Ерунда, каких-нибудь сорок минут! – нарочито бодрым голосом ответил хирург.
Велев медсестре готовить меня к операции, он зашел за матерчатую перегородку.
– Вас хоть тренировали лежать с запрокинутой навзничь головой? – спросила медсестра.
– Нет, первый раз слышу! – удивился я. – Зачем? Ведь всего каких-то сорок минут!
Медсестра как-то странно взглянула на меня и покачала головой:
– При такой операции под местным наркозом это бы не помешало!
– А почему же тогда не под общим? – спросил я и через силу пошутил: – Что, вам анестези, что ли, жалко?
– Да нет! Анестезии у нас хватает, – не принимая моего тона, серьезно ответила медсестра. – Это для вашей же пользы, чтобы вам случайно не перерезали голосовые связки. И для нашей. А то будут потом жалобы… Письменные, разумеется, потому что разговаривать вы тогда уже не сможете никогда!
Мне хотелось узнать про то, что меня интересовало больше всего: действительно ли все так опасно? Но тут из-за перегородки вышел врач, на этот раз не один, а с женщиной в халате и тоже в хирургических перчатках.
– Начинаем! – деловито сказал он.
– Ой! – спохватилась медсестра. – Я же ему укол не сделала!
– А это еще зачем? – спросил я, подставляя руку.
– Успокаивающее! – ответила медсестра и болезненно простонала: – Его за полчаса делать нужно!.. Хотя для кого-то он только через час действовать начинает!
– Ну? – нетерпеливо спросил врач и, указывая мне пальцем на ярко освещенный электрическими юпитерами стол, уже совсем чужим, командным голосом приказал: – Прошу!
С помощью медсестры я устроился на жестком ложе. Она помогла мне правильно лечь, поставила капельницу. И принялась старательно обрабатывать место, которое предстояло оперировать, йодом. Но тут ее случайно толкнула женщина-хирург, и она, ойкнув, выплеснула на меня едва ли не половину содержимого большого пузыря…
– Всё? – послышалось уже грозное.
– Да!..
Два хирурга встали по сторонам от меня.
И тут началось…
Было 24 июня 1980 года. В стране гремела Олимпиада. Люди жили своей обычной жизнью, слушая по транзисторам последние новости о наших новых спортивных рекордах. Где-то уже раздавались победные гудки машин… А я с запрокинутой навзничь головой и обнаженным горлом лежал на операционном столе под скальпелями, не в силах даже пошевелиться. Правая рука была привязана, очевидно, чтобы я не мешал хирургу. Левая – под капельницей. Ноги – и те были крепко связаны бинтом.
Хирург сделал первый надрез по коже, совсем еще не ощутившей наркоз. Что-то защелкало, затрещало, то тут, то там возникала острая боль. И женщина-хирург, чувствуя это, сразу же делала в это место укол и вводила туда новокаин. Никогда в жизни я не чувствовал еще такой почти непрерывной боли и не находился в таком совершенно беспомощном положении! Ну, прямо как бабочка, приколотая иголкой к стене! Хорошо, что это должно было продлиться каких-нибудь сорок минут – даже чуть меньше школьного урока…
Но не тут-то было!
За перегородкой раздался телефонный звонок.
– Вас! – позвала хирурга медсестра.
– Иду, – отозвался тот, и как и накануне, я стал прислушиваться. А как было поступить иначе, если речь снова шла обо мне!
– Нет, – говорил врач. – Сейчас не могу. На операции! Сколько-сколько… Часа три, не меньше, если только все раньше не кончится… – Тут он, очевидно, сообразил, что я все слышу, и уже громче добавил: – Но мы, как говорится, сделаем все возможное!
«Три часа!» – понял я и обмяк.
Хирург, чтобы видеть, где напрягаются голосовые связки, время от времени задавал мне вопросы, на которые я должен был коротко отвечать «да» или «нет». Потом, чтобы хоть как-то отвлечь меня, принялся задавать мне уже такие вопросы, над которыми я должен был думать. Например, зная, что я военный газетчик, мечтающий стать писателем, он спрашивал меня, в чем разница между корреспондентом и журналистом или между поэзией и прозой.
Это действительно слегка отвлекало. Но ненадолго. Боль становилась все острее и острее. К тому же через час пролитый йод начал печь меня так, словно я лежал на раскаленной сковородке! Голова, запрокинутая в непривычном положении, тоже напоминала о себе. Руками я по-прежнему не мог пошевелить, зато перебирал ногами, которые непонятно каким образом сумел освободить от бинтовых оков…