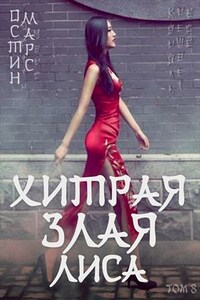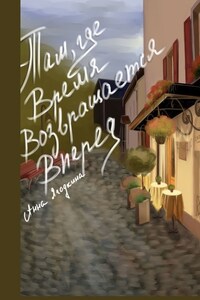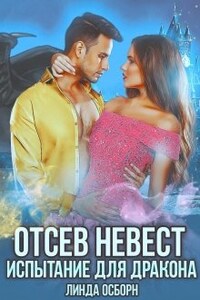Он лёг удобнее и закрыл глаза, продолжая улыбаться, она гладила его волосы, раскладывая их по одеялу и любуясь, погладила кончиком пальца бровь и висок, повторяя контур самой глубокой морщины. Двейн тихо спросил:
— Что там?
Она шёпотом ответила, как секрет, обрисовывая пальцем контуры:
— Морщинки. Вот эта штука, отсюда и вот сюда, называется «хвост золотой рыбы». Задача каждого человека — к старости отрастить себе огроменный, просто шикарный вот такой вот хвост. Это значит, что человек прожил хорошую жизнь. А у тебя мало совсем. У тебя только здесь, — она опять обвела пальцем контур, который пропал, как только он перестал улыбаться. — А надо вот так, — она очертила двумя пальцами широкий клин и вздохнула: — Непорядок. Редко улыбаешься?
— Наверное.
— Исправляйся. Времени у тебя ещё много, конечно, но работы предстоит море, так что начинай прямо сейчас и тренируйся каждый день.
— Что надо делать?
— Смеяться. Можно просто улыбаться, но тогда постоянно. В идеале — даже спать с улыбкой.
Он улыбнулся и открыл глаза, посмотрел на неё как на странненькую:
— Это нельзя сделать.
— Можно. Если долго смеяться на ночь глядя, то вот эти мышцы остаются в тонусе, — она нарисовала на его щеке треугольник, чётко по следу исчезающих морщин от улыбки. — Когда сознание отключается, мышцы продолжают немного держать улыбку. Я видела такое. Да и ты видел, я думаю. Если руки сильно перенапрячь вечером, то они ночью не разгибаются. Замечал? — он утвердительно опустил веки, улыбнулся, она кивнула: — Вот, всё можно. Но надо приложить усилия. Хочешь, почитаю тебе что-нибудь смешное? Или ты расскажи что-нибудь. Был у тебя день, когда ты смеялся так, что чуть не лопнул?
Он улыбнулся так резко и неудержимо, что она поняла — был, и он его прекрасно помнит. Убрала руки и шёпотом потребовала:
— Рассказывай. Я требую охренительную историю.
Он медленно глубоко вдохнул, собираясь с силами, как будто правда стеснялся выступать, но промолчать об этом не мог, точно как министр, которого распирало от собственной офигенности. Опять покраснел и стал рассказывать.
— Однажды давным-давно. В старшем доме Кан. Господин послал за мной. Приказал меня вымыть и доставить в его покои для примерки одежды. Так часто делают, когда господа хотят посмотреть на свой костюм со стороны. В империи зеркала очень дорогие, и даже если они есть, со спины себя в них не увидишь. Обычно благородные наследники имеют по два-три двойника, их находят ещё в детстве, держат при себе, двойники молятся остаться с господином в одной фигуре на всю жизнь, потому что, если она изменится, их тоже заменят. Но обычно этого не происходит — двойников приближают к себе и делают личными слугами, их отправляют вместо себя на примерку костюмов, дают им разнашивать свою обувь, ставят их вместо себя позировать для портретов. Господин сделал вид, что выбрал меня в такие двойники. На самом деле мы просто ночью тренировались. Когда меня вымыли, одели в чистое и доставили к нему, он приказал всем уйти, а мне сказал: «Я отобрал у тебя три часа сна, и теперь я тебе их верну. Ложись и спи».
Вера захихикала, представляя этого юного командира, Двейн посмотрел на неё, покраснел ещё сильнее и сказал:
— У него был личный дом, большой, с двумя личными комнатами, к дальней нельзя было пройти мимо ближней, так что он сел в ближней и охранял меня. А мне сказал зайти за ширму в дальней комнате и там лечь. Я зашёл — там два одеяла, подушка, ваза со льдом. Я этого всего никогда не видел, я не работал в покоях. Ну, лёд видел на кухне, из него делали десерты, но этим взрослые занимались, мы только издалека видели. И я решил, что его надо есть. И съел. Мне так понравилось, что я вточил полмиски, у меня онемел весь рот и шея, я себе язык поприкусывал, потому что не чувствовал его. Потом господин услышал и заглянул спросить, что я тут точу с таким хрустом. Сказал, что это не для еды, а для прохлады в комнате. Там жарко. Сказал лечь на одеяло и накрыл меня вторым, и ушёл, сказал, через три часа придёт. А я никогда до этого одеяла не видел — там спят без одеял. Ну, я не знаю, как старшие, дети спят на пальмовых листьях, их горой наваливают в углу, сверху тряпками застилают, это каждый раз праздник, когда свежие листья приносят. Они пахнут, на них мягко. И там не укрываются, там не бывает холодно. А если и бывает, пару недель зимой, то дети просто ложатся ближе, и всё. И тут — привет, одеяло. Два. Шёлковые. Я в них как завернулся, мне так понравилось, я думал, я в рай попал. И я, в общем... — он покраснел ещё сильнее и опять попытался уткнуться лицом в подушку, и проговорил туда, с диким стыдом: — Я каким-то образом лёг на свою руку, а ноги были плотно обмотаны одеялами, я весь был обмотан, оно кажется скользким, но само к себе оно цепляется. И я понял, что не могу перевернуться. И я лежу, и осознаю, что я такой беспомощный... Одеяло снаружи скользкое и вообще не сцепляется с полом, он воском натёртый, я по нему ёрзаю гусеницей и не сдвигаюсь. И в этот момент я понимаю, что очень сильно хочу в туалет. И понимаю, что у меня опухло горло и я не могу говорить. И я лежу и думаю — всё, это конец. Жизнь дала мне такой шанс, меня заметил благородный человек, я подошёл ему по фигуре в двойники, это успех, это один из немногих шансов для раба подняться до хозяйских покоев, жизнь дала мне всё, а я это так позорно профукал. Я всерьёз обдумывал вариант откусить себе язык и умереть.
Он замолчал, Вера смотрела на него круглыми глазами, ожидая невероятного, он немного подышал, собираясь с силами, и сказал:
— Потом господин каким-то образом услышал, что я там шевелюсь, заглянул и спросил, в чём дело. А я пытаюсь что-то сказать, а не получается. И в итоге я всё-таки смог прохрипеть: «Переверните меня». А он посмотрел на меня так... неодобрительно. И сказал: «Я, конечно, понимаю, что тебя вымыли, одели и привели сюда, а я уступил тебе свои покои и сел тебя охранять, и я ночью пообещал о тебе заботиться, но это не значит, что ты теперь благородный человек. И, поверь мне на слово, даже благородные люди переворачиваются сами». А я всё понимаю, и мне стыдно просто капец как, но я понимаю, что если я не освобожусь срочно, то случится непоправимое. И говорю: «Я запутался». Он подходит, садится красиво рядом и говорит: «Я помогу тебе разобраться». И начинает рассказывать примерно то, что вы мне в столовой рассказывали, от императора, посланников и до рабов, по пунктам. А мне, конечно, очень интересно, но есть, блин, более насущные вопросы. И я понимаю, что либо я сейчас перебью своего благодетеля, либо испорчу его репутацию перед всем домом. Потому что в одеяле запутался я, а за последствия отвечать придётся ему, потому что, если отвечать буду я, то я отвечу за это жизнью, он об этом знает и не допустит, он мне это сегодня ночью пообещал. И я перебиваю его и хриплю: «Я в одеяле запутался». И у него на лице медленно появляется осознание. И он как начал смеяться. Я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то так смеялся. Это было так заразительно, что я забыл про все свои проблемы и лежал просто хохотал до слёз, а горло охрипшее, это звучит очень странно, и от этого ещё смешнее. Потом он меня распутал и отпустил, оказалось, что свои три часа я благополучно проспал. Я пошёл обратно на кухню, и так и не сказал ему, в чём была проблема. Он решил, что я просто дерзкий.