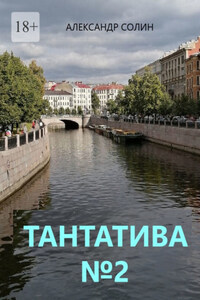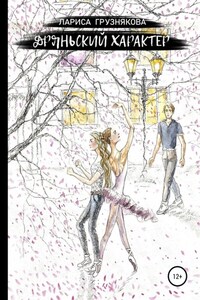Мне приснился Бог, а поскольку Богу в свою очередь снилось, что жизнь, в том числе и моя, есть сон, мой камерный, усугубленный ватной тишиной морок стал еще более зыбким и неверным. Того и гляди, растает вместе со мной! Впору молиться, чтобы божий сон был как можно крепче!
– Ну, что притих, спрашивай! – проник в меня божий глас.
– А можно? – оробел я.
– Во сне все можно.
И я спросил первое, что пришло на ум:
– Сказано, что всё тщета и ловля ветра. И смысл жизни тоже?
– Мало ли что у вас там сказано.
– А правильно я понимаю, что если всё проходит, то и смерть тоже?
– Может, есть вопросы поумнее?
– Тогда не вопросы – жалоба. Можно? – осмелел я.
– Разумеется, – по-отечески обдал меня Бог своим неземным, небесно царственным сиянием.
– Я тут на днях подвел промежуточный итог своей жизни и сильно огорчился. Это же не жизнь, а черт знает что! Какой-то безграмотный убогий черновик!
– А я здесь причем? – прогудел Бог. – Тебе были даны разум, воля, способности, здоровье. Где-то даже с лихвой. Я что ли виноват, что ты всё профукал?
– Да, Господи, конечно, мне кроме себя винить некого! Но Господи ты боже мой, почему мы живем только раз? – загорячился я. – Ведь жизнь так коротка и так непроста! Кому и какая польза от нашего позднего ума? Ведь обидней всего не то, что всё проходит, а что проходит не так как надо! По мне жизнь должна быть подобна шахматной партии, проиграв которую можно сыграть новую! Каждый должен иметь право на реванш!
– Ишь, какой бойкий! Впрочем, это так по-человечески – строить планы на краю вечности! – улыбнулся Бог и, помолчав, вынес вердикт: – Хочешь реванша? Что ж, изволь. Как говорится, тантатива не крапива, спрос не вопрос. Так и быть, сыграю с тобой еще одну партию. Выиграть ты ее, конечно, не выиграешь, дай бог вничью свести, зато на покой уйдешь с чистой совестью. Ну что, согласен?
– Согласен, Господи!
– Вопросы есть?
– Есть! Это будет новая жизнь или исправление старой?
– Где ж я тебе новую возьму? У меня запасных жизней нет. Так что переписывай начисто свою.
– И правильно, Господи! – воодушевился я. – Новая жизнь – новые ошибки, а тут всё уже известно! Нет, правда, там есть очень даже симпатичные места! Детство, например. Оно у меня было хорошее, славное, можно сказать, счастливое. Туда же школа, институт… Да что говорить – первая треть партии была удачной, грех жаловаться! А вот дальше я бы кое-что решительно исправил.
– Что ж, дерзай. Только с ошибками поаккуратней, не перемудри. Не всё, что ты считаешь ошибками таковыми являются. Не дай бог исправишь не то – будет еще хуже.
– Так я же, вроде, буду всё знать наперед!
– Но, но! Всё знать наперед даже мне не дано! – нахмурился Бог. – И потом, что это за шахматы, в которых знаешь всё наперед? Это, сын мой, не шахматы, а наперстки! Хочешь – сыграем! Но тогда ты точно проиграешь!
– Честно говоря, не ожидал… – расстроился я. – Думал, начну с чистого листа с черновиком под рукой…
– Так и есть: с чистого листа по проторенной дорожке с царем в голове. Споткнешься – опомнишься, а нет – пеняй на себя. Главное, знай: не каждая яма – долговая, не каждый камень – преткновение. И еще: на всякий случай будут кое-какие ограничения, чтоб ты мне там дров не наломал. Так что не удивляйся. Ну, все понял?
– Понял, Господи!
– Тогда играем?
– Конечно, Господи! Все равно хуже уже не будет!
– Как знать, как знать! – усмехнулся Бог и участливо добавил: – На всякий случай мой тебе совет: никогда ни о чем не жалей, ибо все что ни делается – к лучшему.
– Спасибо, Господи, учту…
– Тогда я тебя сейчас переверну, как песочные часы, а дальше сам. Ну что, готов?
– Готов, Господи!
В отличие от разочарованного лермонтовского героя, который «вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно», я вступаю в новую, пережив старую реально и в отличие от него не истощив при этом «жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни», а потому смею надеяться, что при проживании второй жизни мне не станет «скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге» успел подумать я, прежде чем услышал:
– Ну, с Богом!
Секундный кульбит, и чистое дно моих песочных часов запорошили песчинки первых дней нового младенчества. Если уж меня уподобили песочным часам, то резонно было бы предположить, что первыми в нижнюю колбу посыплются песчинки последних дней моей прежней жизни, сделав меня не по-детски умудренным. Но нет: было по-особому и со значением темно – это когда изображения еще нет, но вы знаете, что фильм уже начался. Где-то рядом со мной королева мать и ферзь отец. Иногда они склоняются надо мной, но я их еще не вижу и не слышу. Скоро я открою глаза и буду таращиться на то, что впоследствии назову пространством. Пустое пространство страшит: оно должно быть заполнено лицом матери. Не отсюда ли берет начало наш страх замкнутой пустоты? Я зову мать плачем и приветствую бессмысленной улыбкой. Слайды кормления чередуются с беспамятством младенческого сна. И так день за днем. Классический дебют спеленатого внеутробного, который я не в силах изменить. Все, что мне остается – это заявлять о себе тем или иным способом. Их, собственно, два: либо капризничать, либо улыбаться. Я пользуюсь тем и другим. За пеленками следуют фланелевые распашонки, и это уже новая степень свободы. Можно переворачиваться, ползать, сидеть. Родители радостными возгласами приветствуют мои достижения. Однажды я собираюсь с силами и, цепляясь за решетку кроватки, встаю. Я еще в клетке, но готов сделать первый шаг. Заглянувшая в комнату мать разражается бурной радостью, подхватывает меня на руки, подносит к зеркалу, говорит: «Смотри, какой ты у меня уже большой!», и я вижу там свою довольную мордашку.
А вот весьма примечательный эпизод, совпадающий с моей первой, самой ранней памятью: я на коленях у матери захожусь плачем. Происходит это, как я теперь понимаю, в жаркой, пропитанной запахом бензина кабине грузовика. Пытаясь меня успокоить, водитель тычет пальцем в прибор, за круглой стекляшкой которого мечется тонкая стрелка. Уставившись сквозь слезы в прибор, я на несколько секунд замолкаю, и вид этой дрожащей, испуганной стрелки вонзается в память на всю жизнь. Убедительное подтверждение того, что черновик с божьей помощью переписывается. Ошибок же пока либо нет, либо они орфографической природы и на синтаксис жизни не влияют. Скорее же всего вмешательство просто неуместно, ибо река младенчества течет, как и положено истокам, естественно, прихотливо и свободно. Как бы то ни было, моя память вопреки ожиданиям не отягчена будущими событиями, и у меня нет ни малейшего представления о том, что, где и как я должен поменять. Остается дождаться и понять, каким образом мне будет дано об этом знать.