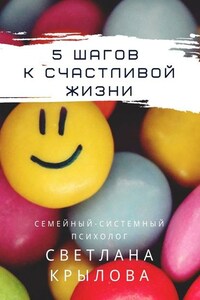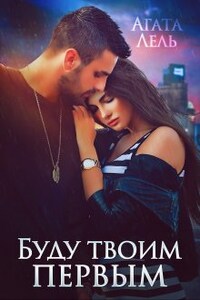Коленки разбиты так, что подорожник не справляется. Кровь стекает на щиколотки, приземляется на деревянные доски пола. Но эту боль перетерпеть можно. Вон и Машка заботливо дует.
Машка знает, что сейчас у меня в дребезги еще и сердце. Этого не видно. Я не умерла. Живу. Но больно так, что дышать трудно.
Вот бы, чтобы эту боль унять, к сердцу приложить сочный лист подорожника. Обидно и в горле першит. Я облизываю сухие губы, прикусываю нижнюю, а боли не чувствую. Чувствую ржавый привкус крови. И пусть, пусть!
Я хочу разрыдаться. Только чтобы рядом никого. Я хочу закричать и рухнуть в подушку, закутаться прохладной простыней, провалиться в глухую темноту. Но всего это прямо сейчас я не могу сделать. Перестаю кусать губу. Вытираю незаметно ладошкой капельки крови. Засовываю ладонь под покрывало, вытираю.
Машка аккуратно кладет на тумбочку кровяной лист подорожника, перестает дуть на правую коленку, хмурится:
– Леська, надо в медпункт. Без вариантов. Тут же в мясо.
Я чувствую, как задрожали губы. Ну почему оно само так выходит. Не заплачу. Ни за что я не заплачу при Машке. Она скажет, что сто раз меня предупреждала. Начинаю припоминать что-нибудь смешное и дурацкое. В голову лезет не смешное. Вернее, смешное, но с Вовкой.
Как он полез на деревенскую черешню зацепился шортами за ветку так, что оторвал кусок кармана сзади. Вырвал ткань и с шорт, и с плавок. Замер. Покраснел. И я еле-еле сдерживалась, чтобы не засмеять, но все равно не смогла. И Вовка захохотал вместе со мной, стянул футболку и повязал ее на бедрах. Подал мне руку, и я залезла к нему на дерево. Мы смеялись, рвали черешню в Вовкину бейсболку, а потом ели ее, прислонившись к широкому стволу дерева. И губы у Вовки пахли черешней. И ветер дул нам в лицо.
А сейчас от куда он взялся здесь, в домике? Втягиваю воздух и немного дрожу. Это не ветер. Это Машка. Она наклонилась над моим лицом и дует. Я отодвигаюсь:
– Ты чего?
– Это ты чего, Леська. У тебя коленка до мяса разодрана, сама белее наволочки сидишь, как сомнамбула. Я уже думаю, ну все, в обморок рухнешь. Аууу, ну-ка, прекращай зацикливаться. Ну, слышишь?
Я киваю и разглядываю дырку на шторе. К дырке подлетает толстая муха. Я сгоняю ее рукой. Машка пытается поймать ее. Ничего не выходит. Муха зло жужжит и, потеряв ориентиры, ударяется о мое лицо. Слезы прорываются без спроса. Как будто муха, коснувшись моей щеки, открыла сдерживающий их кран. Муха хаотично летает и растерянно жужжит. Машка обнимает меня и шепчет в ухо:
–Лесь, ну не надо. Да пошел он. Лесь. Он козел. И кретин.
Я, как маленькая, утыкаюсь в Машкино плечо и, забыв о том, что ресницы накрашены тушью, пачкаю Машкину розовую футболку мокрыми отпечатками ресниц.
Машка шепчет:
–Пошли в медпункт. Ну никак иначе. Надо.
Я бубню осипшим, гундосым голосом:
– Нет, там они. Я ей нос, кажется, разбила.
Машка хмыкает:
– Ничего ты ей не разбила. Тут бы такое было уже. Она наоборот испугалась. Вон как тебя толкнула. Овца она. Сныкалась.
Машка меня успокаивает. Конечно, я разбила.
Я втягиваю воздух:
– А он за ней побежал. Представляешь, Вовка за ней побежал! Не просто толкнула она меня, подножку подставила. А я сильно задвинула ей в нос. Не удержалась. Так ей и надо. Ладно, пошли. В самом деле, что мне теперь с дыркой в ноге ходить из-за них.
Машка улыбается, подставляет руку. Я опираюсь, делаю шаг и в колено ударяет острым током:
– Черт, Машка. Как больно.
– Ну, а ты еще бодришься.
Мы молча плетемся к медпункту окольными дорожками, чтобы никого не встретить на пути. Тут и там мелькают указатели со стрелочками – кинотеатр лагеря “Дружба”, спортивная площадка лагеря “ Дружба”, сцена лагеря “Дружба”, выход к морю.
И каждое это место связано с Вовкой. Ненавижу!
Я вижу “нашу” скамейку. Она прячется между соснами. Там нам казалось, что мы попали в волшебный лес, около которого шумит море, а люди где-то далеко. Это, кажется, было на третий день после открытия смены.
Вдыхаю смоляной запах и говорю Машке:
– Я здесь одна посидеть хочу. Не обидишься?
Машка морщит лоб, но вслух отвечает:
– А травм пункт, как дойдёшь сама?
На Машкины волосы падает солнце. Лучи скользят по лицу и прядкам, и я вижу, что Машка так и не смыла блески, оставшиеся со вчерашней дискотеки. Чертовой дискотеки! Они там, кажется, цуловались.
Я киваю:
– Я дойду Маш. Только не обижайся, просто одной надо очень побыть.
Она подозрительно глядит. Кивает:
– Если что – свисти. Я в беседку пойду, там Пашка на гитаре играет, там Андрюха нам места занял.
– Про меня не рассказывай.
– Ой, можно подумать. Как будто они не знают. Да ладно уж, не гляди ты так, не скажу, не переживай!
Машка помогает мне устроится на скамейке. Я смотрю, как она исчезает из вида, теряясь в сине-зеленых деревьях. Откидываюсь, втягиваю терпкий солено-пихтовый аромат, закрываю глаза.
Вот бы вернуться назад. Я бы ни за что не стала с Вовкой разговаривать. Не в день нашего знакомства, ни вообще никогда. Не дала бы ему тащить мой рюкзак.
Если бы можно было вырвать из сердца, из головы человека, стереть ластиком, потерять память. Но Вовка въелся в мои мысли и не желает исчезать. Никогда мне не было так горько и так сладко. Ядовито. Садилась в поезд и нашла эту дурацкую бусинку с буквой V. А потом столкнулась с Вовкой около туалета в конце вагона. И он стал, как вкопанный, на меня уставился и я. Как будто я его встречала раньше. Так и застыли. Дураки. Потом Вовка опомнился, сказал:
– Проходи без очереди.
А потом стоял и ждал меня, выяснял как зовут, из какого отряда. Оказалось, что мы из одного. Нашел наше купе. Пришел с черешней и плеером. А следом за Вовкой Пашка с картами пришел. Стали играть, а я “Руки вверх” и “Хай Фай” слушала. Я смотрела на Вовку украдкой. Только познакомились, а как будто всегда знала. И он на меня глядел. Я чувствовала, как горели щёки, когда наши взгляды совпадали. И дышать мне становилось трудно. А Вовка, как будто догадался и открыл окно до половины, сел ко мне близко-близко. Ветер врывался в купе, трепал мои волосы и его длинную, выгоревшую челку, мы смялись, распутывая наши пряли и случайно касались друг друга руками.