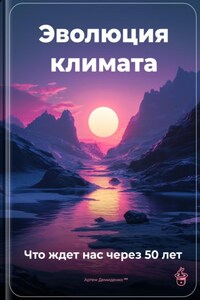Руки, ноги Этого повсюду
Со всех сторон глаза, головы, лица
Всюду слушают чуткие уши;
Мир собою покрыв, стоит Он.
(Бхагавад-Гита.)
Февраль
…Двадцать минут. Это всё, что у него было.
Так много, для того, кто может умереть через минуту. Он уже не раз думал о смерти: один гулкий выстрел, одна дырка в черепе, и всё – мира больше нет. Что тогда будет? Туман? Тьма? Ничто?
Впрочем, сейчас не важно.
Он пошел к морю. Там со временем происходило необъяснимое колдовство, особенно в фиолетовых сумерках: минуты растекались и длились часами. Может, потому что тот живой исполин, тот организм, чьё тело – вода и соль, был настолько древним, настолько бесконечным, что суета невольно отступала перед его величием. Туман окутал набережную, накрыл её своей неподвижностью, проглотив не только берег, пальмы и пирс, но и саму реальность. Сегодня море было вратами в сновидение.
«Если долго сидеть на холодных камнях, то можно заснуть на берегу и уйти из этого мира, навсегда раствориться в тех далях, что иногда снятся магам». Впрочем, есть еще один вариант – отморозить задницу.
– Ну, здравствуй! – сказал он морю. – Можешь не отвечать. Я знаю: таких, как я, было много… И все думали, что умеют общаться с тобой…
На самом деле он не умел общаться с морем, просто приходил на его пустой берег, чтобы помолчать вместе с застывшей водой. Вся его долгая и никчемная жизнь была для древнего сознания моря не более чем вздох, длилась не дольше, чем отблеск падающей звезды. Так… одна промелькнувшая мысль из миллионов мысленных конструкций, один порыв ветра в сердцевине смерча. Ничтожная вспышка беспокойного разума, посмевшая надеяться услышать ответ вечности…
И все же море было радо ощущать его. Особенно, сегодня, в фиолетовых сумерках. Мрачные синие пальмы склонились над головой почти с угрозой, ветер рванул пряди волос, но потом, словно застеснявшись, резко утих. Скомканная пачка сигарет – бумажное перекати-поле набережной, подхваченная порывом ветра, – полетела вдоль берега, нещадно ударяясь легким бумажным телом о холодные камни. Только что спокойная зеркальная гладь моря взбунтовалась; три волны, одна за другой, с силой ударились о пирс, плюнув человеку в лицо брызгами. Он рассмеялся:
– И я рад видеть тебя…
В прошлый раз он сидел на этом самом берегу месяц назад. Собирался умирать и прощался с миром. Потому что его ждали… Впрочем, это тоже неважно. Тогда он увидел нечто СТРАННОЕ: в грозовых тучах, нависающих над спящим морем, образовался просвет. В просвет вели ступеньки. Прямо над ним проплыло чудо из чудес: небесный остров, на котором возвышался величественный дворец. Строение не было видно целиком, но и тот небольшой фрагмент, что приоткрылся в просвете, навсегда врезался в память.
Стены дворца были сделаны не из камня или дерева, а из прозрачного материала. Лёд? Хрусталь? Алмаз? Винтовые лестницы уходили в небо, жидкая радуга стекала по ступенькам в этот бренный мир, где на берегу сидел онемевший свидетель. Он видел танец розовых лепестков, сопровождающий движение острова; он вдыхал аромат таких сладких и тонких духов, что не имел сил их выдохнуть; слышал далекие голоса и музыку, такую легкую и текучую, что она почти сливалась с шумом ветра. Он смотрел на железных колоссов, охраняющих дворец от врагов, и сочинял речь, которая бы умилостивила их неподвижные лица и заставила бы опустить оружие.
…потому что он очень хотел попасть во дворец.
Потом все внезапно закончилось: облака проплыли, растаяли, как легкая дымка на ветру; сумерки уступили место ночи, и он убедил себя, что дворец – лишь греза, которая привиделась уставшему разуму. Он украдкой посмотрел на море: оно тоже застыло, удивленно провожая проплывающий остров.
Это было (или не было?) месяц назад.
Сегодня он просто пришел к морю, и это было важно, если вообще что-то может быть важным. Важно для него самого.
Пахло водорослями, живой рыбой, дымом костра и еще чем-то весенним, вроде цветка магнолии. Он знал, что магнолии не цветут в конце февраля, и все же, ему так хотелось… Воздух, плотный и насыщенный, мог бы послужить пищей богам. Вдохнув морской запах, Гость больше не хотел есть, не хотел спать, не хотел идти на вокзал и не хотел возвращаться домой. Он желал одного: сидеть здесь вечно, спокойным и целостным, как древнее море, вечным и пустым, как космос, холодным и твердым, как эти пляжные камни.
Стоя на пирсе, долго смотрел на черную воду под ногами, видел всю её глубину. Он хотел бы нырнуть в это слитное пространство, хотел погрузиться в живую колыбель, стать ее частью, чтобы потом миллиарды лет волной исступленно биться о берег, шуметь пеной, брызгать каплями и кишеть рыбой. Море было полно эротики, даже такое спящее и холодное, с колючими снежинками над поверхностью. Эротики иного плана, чем человеческая. Море было бесполо и самодостаточно; оно не нуждалось в соединении с кем-то или чем-то другим. Его переполняла осторожная сила, свойственная столь величественному осознанию. Оно никогда и никому не доверяло, и ничего не хотело, просто проявляло запретный интерес. Интерес к мимолетному человеческому сознанию.
Вначале он отступил на шаг, обрызганный холодными каплями, потом равнодушно отметил, что вода затекла в левую туфлю, и отступил еще на шаг. Следующая волна почти накрыла с головой, подарив массу неприятных ощущений. Мокрые волосы, покалывание во всем теле, капли, стекающие за воротник куртки, мокрые джинсы. Ну, хватит… Он отпрыгнул назад и море утихомирилось. Оно стало ласковым, нежным, несмелым, оно подзывало и молило о внимании. Как истерзанный любовник, ластилось и обещало быть покорным. Он представил, как снимает одежду и погружается в ледяные темные воды. В какой-то миг показалось, что если делать все не так, как обычно делают люди, то можно дышать под водой. Он, обнаженный, зайдет к своему бестелесному любовнику и станет частью воды. Сядет на песчаном дне, и, оттуда, сквозь толщу воды, будет три тысячи лет смотреть на звезды. Созвездия будут проплывать, корабли будут тонуть, жизнь будет идти, существа рождаться и умирать, цивилизации сменять друг друга, а он никогда не умрет, потому что сольётся с морем в холодном оргазме.
Но у него было всего двадцать минут. Его ждали люди, вокзал и автобус. Ночь стала чернильно-синей, словно хотела своим мраком скрыть кокетство морских волн. Пальмы разогнулись, отпуская его, понимая, что человек уходит, значит, интересного зрелища не предвидится. Им вдруг стал интересней ветер и кричащие в небе птицы. Море сделалось совершенно равнодушным, устыдившись своих самонадеянных игр. Оно притихло и занялось обычным неделаньем: волны с холодным отчаяньем бились о пирс, пена клубилась, черная вода облизывала холодные камни, выбрасывая на берег обглоданный водой мусор.