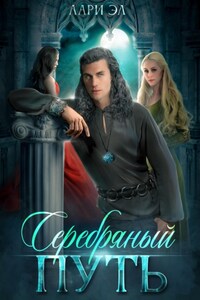У меня душа как-то некрепко держится за тело. Любой внезапный переполох может вытряхнуть из меня душу, и даже в мелочах – стоит мне споткнуться на бегу, глядь, она парит в вышине. Особенно этому способствуют любовь и алкоголь. При этом, как бывает только в кино или во сне, тело мягко и расслабленно опускается на землю.
Первый раз это случилось в Юрмале на детской площадке, среди медовых лип и корабельных сосен с зарослями черники у корней, наполнявших воздух запахами смолы и нагретой хвои. Крутилась карусель, и мой дорогой мальчик с ветерком летел по кругу, да еще раскачивался, ибо это были качели-карусели. Солнце клонилось к закату, на тот момент оказавшись на уровне глаз, и все было видно контражуром.
Карусель остановилась, а когда я потянулась к ребенку, она вдруг поехала с музыкой хрустальной. Меня ударило по лбу железной балкой, и я увидела себя лежащей лицом к небу, раскинув руки, крутились трубы, громыхая и скрипя, наверно, снизу напоминая адскую машину, а сверху – праздничную иллюминацию, кружащую под наигрыш волшебный.
Передо мной уж мерцали белые фигуры, исполненные любви. Они как будто совещались и были очень притягательны, из чего я заключила, что небесное притяжение, пожалуй, посильнее земного. Мелькнуло испуганное лицо мальчика. И я мгновенно обнаружила себя сидящей на скамейке, на лбу вздувалась здоровенная шишка, а Павел побежал играть дальше – подумаешь, только шишка, и больше ничего.
Это был период, когда мир явно пребывал со мной в раздоре. Все время северный ветер какой-то злой, даже летом, нервы на пределе, люди представлялись мне сборищем отщепенцев и фриков, иногда утром я просыпалась в полнейшем отчаянии без всякой видимой причины.
Да и что тут веселиться-то, когда кругом наводнения, землетрясения, тайфуны, черная дыра поглощает материю, антивещество пожирает вещество, брахманы прекратили творить молитвы, народы впали в варварство, всю ночь над ухом зудят комары, по улицам стаями бродят сумасшедшие, в раздолбанных автомобильчиках – шудры. Всюду слышатся пьяные крики, мат-перемат, из окон доносится перебранка. Встанешь на трамвайной остановке – рядом бабуля в мини-юбке, ярко накрашенная, в парике с искусственной косой, бледный слепой высотой с коломенскую версту нащупывает посохом сквозь толпу дорогу к трамваю…
Я даже затеяла окреститься, пошла в храм на Петровке, а там священником – отец Михаил, душа-человек, я ему рассказала про свою беду, а он вдруг так жарко зашептал:
– Вы счастливица в сравнении со мной. Мне надо принимать исповедь, причащать, благословлять, а на уме: “Да будьте вы неладны!” Или, что еще хуже: “Чтоб вы сдохли все…” Хоть снимай ризу и меняй работу!
В смятении вернулась я домой. А мои окна выходят на Бутырскую тюрьму. Нет-нет и поглядываешь, не собрались ли семь Ангелов, имеющие семь труб, вострубить и не летит ли на землю звезда, которой был дан ключ от кладезя бездны?
Хотя мой приятель Флавий считал подобный вид из окна благословенным, ибо он развивает у квартиранта философское отношение к жизни.
– Еще лучше, если б твои окна выходили на крематорий, – заявлял он мечтательно, – что напоминало бы о бренности бытия…
Своим благозвучным именем друг мой обязан мамочке, та много лет заведовала сектором икон в Третьяковской галерее. Агнесса Шимановская, специалист по Страшному суду.
– Я только запамятовала, – бормотала она спустя много лет, уже старенькая, седая, всегда всем ужасно недовольная, – в честь кого именно я назвала сынулю? Флавия Иосифа? Флавия Аэция? Флавия Стилихона?.. Ромула?.. Филострата?.. Вегеция Рената? Флавия Клавдия Юлиана или Флавия Севера?
Верней всего – Иосифа, поскольку сестрица Флавия – Сибилла – тоже отхватила имечко дай боже, но эта, уж никаких сомнений, – наследовала незабвенной королеве Иерусалимской.
– Когда Амори, сын Фулька Анжуйского и Агнес де Куртенэ, взошел на трон Иерусалимского королевства, – говорила низким контральто их царственная мать, – его брак объявлен был недействительным по причине кровного родства. Но Сибиллу и ее брата Балдуина после долгих и нудных препирательств с большой натяжкой и оговорками объявили законными детьми…
Одна радость, что Шимановская не одарила сына звучным именем Балдуин, чем обрекла бы его на пожизненное прозвище Балда. А Флавий – однокашники и так пытались вывернуть, и эдак, все головы сломали, оно неприступно высилось, как монолит не поймешь из какого сплава, отполированный до блеска.
Притом Шимановская утверждала, что родом они из деревни Похолуево Рязанской области и Флавий с годами стал вылитый дед Похолуев – такой же раздолбай, царствие ему небесное. А на меня порой неодобрительно косилась и спрашивала прямо в лоб:
– Райка, ты еврейка?
На что я сызмальства неизменно отвечала:
– Уже да!
С намеком: с кем поведешься, от того и наберешься.
Однако Шимановская, глядя на меня как царь сами знаете на кого, не раз объявляла, что в жилах ее семьи течет исключительно славянская кровь без малейших примесей и вся их компания от кончика носа до кончика хвоста – русские, а именно: бабушка Иовета, сама Агнес, два ее отпрыска Флавий и Сибилла вкупе с отцом Амори Мануилом, предложившим руку любимой дочери графу Стефану Сансерскому. Но Стефан – тот еще обалдуй, не хуже деда Похолуева: из-за какой-то вассальной клятвы, данной римскому императору, которую пришлось бы расторгнуть, стань он королем Иерусалимским, отказался от своего счастья. О чем все, конечно, горевали, ибо Сибилла имела странную особенность, причем никто понятия не имел, что с этим делать: бедняжка непрерывно росла, будучи уже совсем взрослой.
И кто это вынужден терпеть? Я, дочь Софьи Андреевны, дочери Екатерины Федоровны, дочери Аграфены Евдокимовны, потомок фабрикантов Абрикосовых, которым принадлежало пол-Москвы – особняки, богадельни, заводы и пароходы, а главное – прославленная кондитерская фабрика немыслимого масштаба деятельности: “Товарищество Алексея Абрикосова и сыновей”, оборудованное по последнему слову техники, в том числе и паровыми машинами. Потом ее переименовали, и она стала фабрикой имени революционера Бабаева.
Да как она смеет так со мной разговаривать, эта Шимановская, если в зените славы мой прапрадед Алексей Иванович Абрикосов получил звание поставщика двора Его Императорского Величества!
Нет, я ни в коей мере не умаляю величие деда Похолуева, всеми правдами и неправдами уберегшего чистоту славянских кровей, – просто благодаря моему излишне длинному носу, а также непроходимой тоске во взоре меня частенько принимают за представителя избранного народа, и мне, как Человеку Мира, это не то чтобы обидно, а злит как не знаю что!