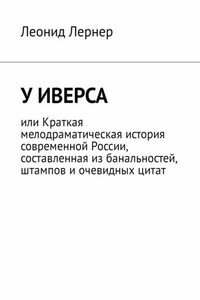– Ты что, душман проклятый, наделал! Я же просил вывеску в первую очередь проверить!
Буквы «н» и «м» не загорались. Петрович пару раз щёлкнул рубильником и поплёлся за лестницей, почему-то долго искал лампочки, а когда, наконец, пришёл, у входа уже толпился народ: первый день, подарки, скидки… Петька секунд пять смотрел в глаза электрику, «набрался, скотина, брысь в подсобку, дырку от бублика тебе, а не премию». Этим же вечером, в подсобке, Петрович помер от сердечного приступа. Похороны оплатил Петька, да ещё и сыну Петровича, многодетному учителю, выделил матпомощь по случаю утраты основного кормильца. На поминках директор «Универсама» искренне плакал, потому что Петрович был какой-то вечной и любимой помехой – гонял его в детстве, когда они с мальчишками лазили на подстанцию, а потом, лет с двадцати, когда Петька вернулся из армии и занялся бизнесом, он взял Петровича на работу и сам стал его гонять. А теперь потешная линия как будто прервалась. И Петька решил, что пусть эти буквы так и не горят, что было, разумеется, глупо и сентиментально. Впрочем, нечаянное название сразу прилепилось, прижилось и, в общем, всем нравилось.
Петька ничего не знал про пиар (он и слово-то такое впервые услышал году в 2005-м, и звучало оно смешно и ругательно), продвижением универсама не занимался – ну, кроме крохотных объявлений в поселковой газете, за которые расплачивался просроченными йогуртами, потому что у владельца газеты, его бывшего одноклассника-ботана Зельцера, сильно болела дочка, и тот зачем-то пичкал её кисломолочными продуктами – наверное, Фима понимал в медицине, поскольку в своё время отучился в областном педе – короче, это было Петьке наруку, и он согласился на «рекламу». Зельцер принёс ему пачку газет – совершенно бессмысленных, в них даже нельзя было заворачивать продукты как в их с Фимой детстве, когда с упаковкой был дефицит, и Фимина мама Белла Исаковна, продавщица в бакалее около станции, делала из заводской многотиражки (её редактором был старший Зельцер) кульки для конфет и семечек. Фима и после того, как Петька перестал печатать объявления, раз в неделю таскал ему «Вестник» – газетка-то всё равно бесплатная – а Петька по полной затаривал его йогуртами и кефиром, иногда и вполне годными. Зельцер был какой-то забитый и всегда грустный, и у Петьки при виде журналиста всегда «щемило». Всё-таки они с пятого по восьмой сидели за одной партой, и Зельцер никогда не жидился, давал списать, благодаря чему Петька до техникума был хорошистом и, в принципе, имел право пойти в девятый, но все его корешки рванули «в профессию», и он тоже соблазнился деньгами. В 99-м Фима внезапно эмигрировал в Израиль, из-за дочки, а газету продал хмырю из поселковой администрации. Новые хозяева пытались окучить Петьку, но он отказался: «У Иверса» и так знала каждая собака, а его цены все в городе воспринимали как безусловно базовые и правильные. Петька уже погасил долг за три рефрижератора «Ман», себе на тридцатник подарил «Шевроле Таху», а баб пересадил с битых разномастных «девяток» на одинаковые розовые «Матизы» (Колька и Васька сначала поржали, а потом – каждый по-отдельности – стрельнули адресок дилера). Когда Зельцер заглянул накануне отъезда – совсем серый, ничего толком не объяснил – у Петьки возник дурацкий комок в горле, и с другом – да какой он, нахрен, друг? – Петька попрощался наскоро и сухо, о чём потом, наверное, жалел. Года через три Фима прислал письмо на двух страницах: дочку евреи так и не вытянули, но зато родился сын, «вроде здоровый», «приезжай в гости, для тебя есть комната с кондиционером», «у нас тут всё как дома, даже комары». Петька не ответил сразу и уже сколько времени никак не мог собраться – точнее, в мыслях он постоянно сочинял ответ «идиоту Зельцеру», это превратилось в какую-то любимую вредную привычку, и Петька думал, что на самом деле никогда ему не напишет, потому что зачем?
Первоначальный капитал образовался у Петьки случайно: в течение одного года перемерли все его родственники, включая двоюродного дядю, бездетного и бессменного на протяжении двадцати лет директора городского рынка, и он оказался владельцем трёх квартир, четырёх дач и наличности, которая, впрочем, почти сразу была съедена денежной реформой и инфляцией.
В девяностых Петька не оскотинился по двум, как он считал, причинам. И обе имели в основе человеческий фактор, то есть конкретных людей, точнее – бывших одноклассников. Первая причина и первый фактор – Замес, Колька Замесов, отчаянный балбес и драчун, боксёр районного масштаба, к двадцати пяти годам имевший две ходки – за хулиганство и мордобой, причём оба раза Колька брал на себя чужую вину, благодаря чему приобрёл авторитет прямо-таки непререкаемый, и в 98-м его поставили смотрящим за всей округой. Разумеется, мотавшего срок Замеса Петька исправно «грел» – мамки их были лучшими подругами, и в детстве они с Колькой по очереди сидели на одном горшке.
Васька Шептулин сразу после техникума рванул в Ленинград и в середине девяностых вернулся без правого глаза, без башни, но зато на «бумере», с «макаровым» и «конкретными связями». За пару месяцев он откошмарил торгашей и блатных, подмял всё, что только можно, и стал уверенно царствовать, устроив штаб в арендованной у Петьки квартире напротив рынка. Потом Шептун нацелился на соседний район, но тут как раз откинулся Замес, и они по старой памяти – всё-таки у обоих была одна первая женщина, Маринка Фирсова, которая с самого начала работала у Петьки бухгалтером, и у него с этой толстушкой тоже пару раз что-то было – договорились, и в их отдельно взятом городе наступили мир и благоденствие. Васькиного старшего брата выбрали мэром, Шептун оказался учредителем или совладельцем почти всего крупного и стоящего, что функционировало на подконтрольной территории, Замесу отстёгивали причитающееся, и он чинно решал вопросы, заседая в «абонированном навечно» кабинете центрового ресторана. Одной из своих стен кабак примыкал к «Иверсу», и кое-кто утверждал, что там даже имелась замаскированная под камин потайная дверца. Так что Петька был со всех сторон прикрыт и мог честно зарабатывать на пропитание – своё собственное, очень даже скромное, и трёх любовниц – дур набитых, но сисястых и безотказных. Детей у него не было, да и желания такого он в себе не находил, поэтому бабы стражайше бдили под угрозой лишения водительских прав и прочих привилегий. Жениться он так и не собрался – как ему казалось, из-за несчастной любви, которая приключилась уже довольно давно со старшей сестрой, прости Господи, Фимы Зельцера – занудной, плоской и очкастой, но когда Петька снимал с её еврейского носа очки, начинался какой-то «Вечный зов». Петька был как зачарованный и, конечно, всё проглядел, тем более, что ни знаков, ни намёков Маша не делала. Он и по прошествии двадцати лет был уверен, что аспирантка им манипулировала. Когда всё случилось, он избил Зельцера – кого-то же надо было отметелить – сломал ему два пальца, ну, и очки в крошку; сам оплатил ремонт организма и аксессуаров (очки у Зельцера были говённые, а в новых, оригинальной «Праде», он уехал в Израиль и, скорее всего, думал Петька, до сих пор щеголяет). Фима снёс эту трёпку стоически, не обиделся, и Петька даже не просил у него прощения. «Почему, сука, не сказал, что она визу получила? – Петя, а с какого хуя? С какого, блядь, хуя Я должен ТЕБЕ докладывать?» Зельцер щурился на него, отплевываясь кровью. Петьку бесила Фимина манера повторять особо значимые куски фраз и делать смысловые ударения, повышая голос до какого-то предпубертатного писка. Матерился Зельцер безыскусно, смешно и неискренне – словно бы подстраивался. Петька отвесил ему хорошего пенделя, вручил коробку с йогуртами и выставил за дверь. После 95-го он ничего про Машу не слышал, старался забыть, вычеркнуть и заполировать нормальными бабами.