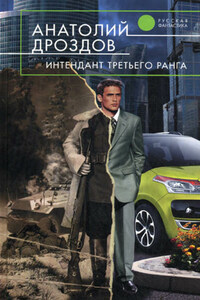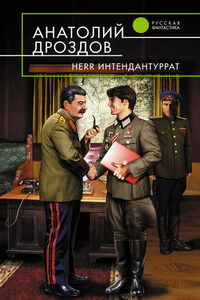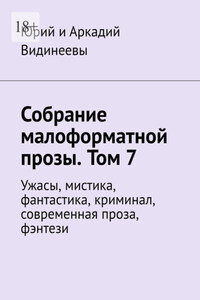Моим первым осознанным воспоминанием стал разговор с седеньким невзрачным человечком в роговых очках, которого мама называла доктором. На доктора человечек не походил – на нем не было белого халата, в его просторной светлой комнате не пахло лекарствами, и он не требовал открыть рот, показать язык или поставить градусник.
Некоторые люди утверждают, что помнят себя чуть ли не с рождения. Я – нет. В памяти сохранились лишь смазанные фрагменты детства. Поломанный трехколесный велосипед. Смешной пенсионер дядя Коля, выпивший по ошибке папин одеколон. Веснушчатая трехлетняя ябеда на соседской даче, научившая меня слову «жопа». Черепаха Степан, которая жила в картонной коробке и любила гадить в папины тапки, а однажды ушла от нас неведомо куда.
Доктора же, которого ни разу больше не видел, я помню отчетливо, а разговор с ним – едва ли не дословно. Возможно, потому что мама не раз доказывала отцу, как важно показать меня этому доктору, и я важностью проникся. А скорее всего, оттого, что в тот день я, семилетний несмышленыш, впервые узнал: я особенный. Не такой, как все.
Добрые полчаса доктор выспрашивал, что я думаю о своем любимом мультике «Маугли». Особенно его интересовали почему-то шакал Табаки и тигр Шер-хан. Мне было предложено поразмыслить, отчего я люблю Табаки ничуть не меньше, чем пантеру Багиру. Я поразмыслил, но ничего путного придумать не смог. Мне просто очень нравился этот мультик, и сам Маугли, и удав Каа, и бандерлоги, и все остальные звери. И «Винни-пух» мне нравился, и «Карлсон».
– А фреккен Бок? – зачем-то снял и протер очки доктор. – Что скажешь о фреккен Бок?
Фреккен была очень похожа на бабушку Валю и сердилась точно как она. А бабушка у меня замечательная, так я доктору и сказал.
Тогда мы перешли к родственникам и к тому, что я думаю о каждом. От них – к одноклассникам. Потом – к обитателям нашего дома. Особенно доктора заинтересовал Кирюха – долговязый, вечно не причесанный и небритый сынок пенсионера дяди Коли, того, что выпил одеколон. Мне очень нравился Кирюха, и я частенько подумывал о том, что с удовольствием водил бы с ним дружбу, будь я немного постарше.
– Это который у него деньги отнимает, – встряла в разговор мама.
– Пожалуйста, не помогайте ему, – попросил маму доктор. – Пускай мальчик сам. Он правда отнимал у тебя деньги?
Деньги мама давала мне на мороженое. Но Кирюхе они были нужнее – у него внутри горели трубы – он сам признавался, даже показывал где. Трубы необходимо было заливать вином со смешным названием «бормотуха». Без мороженого я вполне мог обойтись, а Кирюха без бормотухи никак. Так я доктору и сказал.
– Ну а тетя Нинка? – спросил наконец доктор. – С ней ты тоже бы с удовольствием водил дружбу?
Нинкой звали соседку снизу. Она была толстая, красивая и очень добрая. К ней постоянно захаживали разные дядьки, по которым, как частенько говорил папа, плачет прокурор. Иногда дядька был один, иногда сразу несколько. По ночам у тети Нинки громко шумели и ругались нехорошими словами, гораздо хуже, чем «жопа». Мама говорила «сколько можно», и что будет звонить в милицию, и что мальчикам такие слова слушать нельзя. Но звонить мама боялась, а почему нельзя, мне было невдомек – все эти слова я много раз слыхал в школе, и от одноклассников, и от ребят постарше. Еще дядьки пели по ночам разные песни, мне особенно нравились про карты и про тюрьму.
– Так что насчет Нинки? – напомнил доктор. – Что ты о ней думаешь?
Я честно сказал, что ничего особо не думаю, но саму тетю Нинку, когда та бежит сдавать пустые бутылки по утрам и на ходу бранится и плачет, мне очень жалко, особенно если под глазом у нее новый фингал.
– Что ж, – доктор прекратил протирать очки и нацепил их обратно на нос, – спасибо, Прохор, мне было крайне интересно с тобой побеседовать. Мальчику будет нелегко в жизни, – обернулся он к маме. – Очень нелегко. Он у вас совершенно особенный, не такой, как все. Сказать по правде, редкостный случай: в моей практике, считайте, впервые. Прохор никому не желает зла. Вообще никому. Обо всех думает только хорошее. И еще эта улыбка… – доктор замялся, – словно приклеенная.
– Она и есть приклеенная, – отчего-то всхлипнула мама. – У Проши это с рождения. Уголки рта задраны вверх, поэтому кажется, что он все время улыбается, даже если обожжет палец или наживет синяков. Его мальчишки в школе так и дразнят – Улыбкой. А ему хоть бы что.
Мне и вправду было хоть бы что. Кирюха объяснил, что у меня козырное погоняло, другим такое нужно еще заслужить. Стало быть, «Улыбка» ничем не хуже, чем, к примеру, «Кирюха», а то вон у Руслана Горшкова погоняло вообще Горшок.
Вернувшись домой, я призадумался о том, что сказал доктор. Никаких особенностей в себе я не видел. Ну, уголки рта тянутся вверх, ну и что? У Кати Остроумовой, например, нос длинный, у Пети Каргина родимое пятно вполщеки, а у Дениски Петрова глаза враскорячку – один влево глядит, другой вниз. Наверное, все дело в том, о чем доктор сказал напоследок. Я задумался пуще прежнего. Как можно желать кому-то зла, я не представлял.
– Папа, что такое желать зла? – спросил я отца. – Или думать о ком-нибудь плохо?
Отец поскреб в затылке, переглянулся с мамой.
– Как тебе сказать, сынок, – протянул он. – Желать зла, вообще-то, нехорошо. Но взять, к примеру, нашу соседку снизу. Ты не хотел бы, чтобы Нинка куда-нибудь от нас сгинула?
– Зачем? – удивился я. – Тетя Нинка хорошая, добрая.
– Да? Допустим. Но от ночных дебошей мы с мамой не можем заснуть. И ты тоже не спишь. Пахнет из Нинкиных дверей всякой дрянью, на лестнице грязь. На мужиках, что к ней ходят, пробы ставить негде. Не говоря о ней самой. А ты – дескать, добрая. Так, может, лучше, чтобы она со своей добротой убралась отсюда к чертям?
Отцовские слова заставили меня снова задуматься, на этот раз очень крепко. Меня совершенно не заботило, что песни Нинкиных гостей мешают мне спать. Большое дело – завалиться поспать, если приспичит, можно и днем, после школы. Но мама с папой днем на работе. Получается, то, что мне в радость, им неприятно: недаром мама все собиралась звонить в милицию, но не звонила, потому что боялась дядек, по которым плачет прокурор. Хотя что, спрашивается, их бояться – сам я не боялся ничуть.
– Тетя Нинка, – сказал я соседке в субботу, когда та, как обычно, трусила по двору с полными авоськами пустых бутылок в руках, – сгинь от нас, пожалуйста, к чертям.
Толстое красивое соседкино лицо стало вдруг багровым, бутылки в авоськах задребезжали.
– Ишь, сучонок, – дохнула на меня неприятным запахом тетя Нинка. – Мамашка с папашкой небось науськали? А ты вот что им передай.
На меня посыпались слова, которые мальчикам слышать нельзя. Я не все понял, но смысл уловил: тетя Нинка велела передать, что к чертям не собирается, а кому это не нравится, пускай шагает в плохое место, которое гораздо дальше того, где черти.