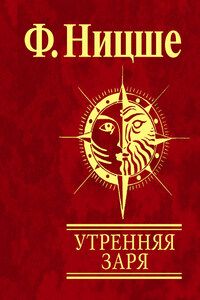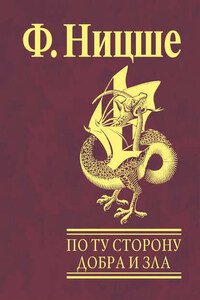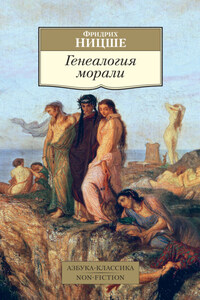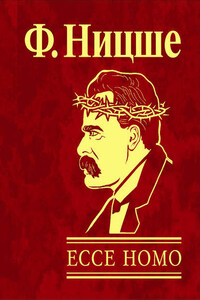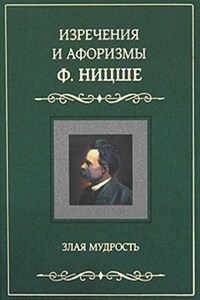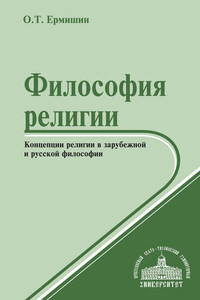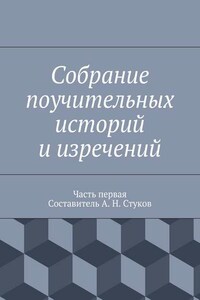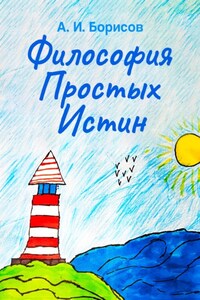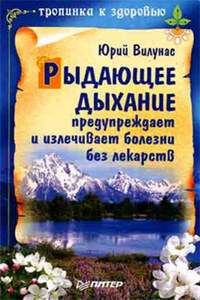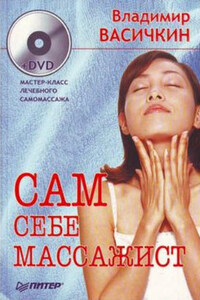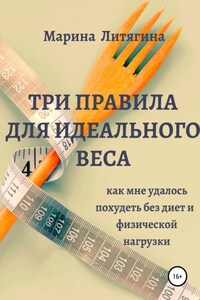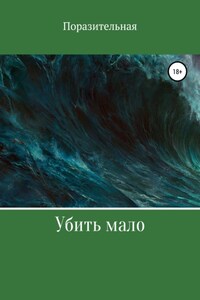В этой книге выведен житель подземелья за работой – сверлящий, копающий, подкапывающий. Кто имеет глаза, способные рассмотреть работу на громадной глубине, тот может видеть, как он медленно, осторожно, терпеливо продвигается вперед, не чувствуя слишком больших неудобств от продолжительного лишения света и воздуха; можно сказать даже, что он доволен своей жизнью и работой во мраке. Не увлекает ли его какая-нибудь вера? Не вознаграждает ли его какое-нибудь утешение? Не переносит ли терпеливо он свой мрак, оставаясь непонятым, неясным, загадочным потому, что он надеется иметь свое утро, свое искупление, свою утреннюю зарю?.. Он вернется сюда, но не спрашивайте его, чего он хочет там, внизу: он скажет вам об этом сам, если он снова сделается человеком, этот мнимый Трофоний, этот житель подземелья. Разучиваются молчанию, когда так долго, как он, бывают в одиночестве, живут как кроты…
Действительно, мои терпеливые друзья, я хочу вам сказать, чего я хотел там, внизу, сказать в этом предисловии, которое легко можно назвать последним прости, надгробным словом: я пришел назад и – я пришел оттуда. Не думайте, что я буду звать вас на такой же отважный шаг или хотя бы только к такому одиночеству! Кто избрал себе такой путь, тот не найдет спутников. Никто не придет помочь ему; он должен быть готов один на все, что ни встретится ему – опасность, несчастие, злоба, ненастье. Он идет сам по себе… и его горечь, его досада состоят в этом «сам по себе»: зачем, например, ему надобно знать, что даже друзья его не могут догадаться, где он, куда он идет? что по временам они будут спрашивать себя, – идет ли он вообще? Тогда предпринял я нечто такое, чего не каждый мог сделать: я спустился в глубину, я начал рыть почву, исследуя ту старую веру, на которой мы, философы, возводили здания уже несколько тысячелетий, возводили все снова и снова, несмотря на то, что все эти здания рушились – я начал исследовать нашу веру 6 мораль. Вы не понимаете меня.
Вопрос о добре и зле разрешался до сих пор самым неудовлетворительным образом: решать его было слишком опасное дело. Привычка, доброе имя, ад не позволяли быть беспристрастным; в присутствии морали нельзя мыслить, еще менее можно говорить: здесь должно – повиноваться. Критиковать мораль, брать мораль как проблему – это признак безнравственности! Но мораль владеет не только всякого рода средствами устрашения, чтобы сдержать критические руки; ее безопасность заключается еще более в некотором искусстве очаровывать, которым она владеет вполне, – она умеет «вдохновлять». Ей часто удается только одним взглядом парализовать критическую волю; бывают даже случаи, когда она умеет обращать волю против нее же самой и делать из нее скорпиона, вонзающего жало в свое собственное тело. Мораль испокон века обладала нечеловеческим искусством убеждения: не было и нет ни одного оратора, который бы не обращался к ней за помощью (даже анархисты – и те прибегают к морали, когда им надобно себя оправдать; они даже называют себя «людьми добра и справедливости»). С тех пор, как на земле начали говорить и убеждать, мораль постоянно показывала себя величайшей мастерицей обольщения, – а что касается нас, философов, она была для нас настоящей Цирцеей.
В чем же причина того, что все философы, начиная с Платона, трудились напрасно? Отчего все воздвигнутые ими здания грозят разрушиться или лежат уже в руинах, хотя сами они честно и серьезно считали их «прочнее меди твердой». О, как ошибочен ответ, который дают и теперь еще на этот вопрос – «потому что все они упустили из виду испытание фундамента, критику разума» – этот роковой ответ Канта не поставил нас, философов, на более твердую или хотя бы на менее зыбкую почву. И не странно ли, право, требовать, чтобы орудие само оценивало свою пригодность и свое качество? чтобы интеллект сам «познавал» свою цену, свою границу, свою силу? Не кажется ли это даже немного бессмыслицей?.. Правильным ответом было бы то, что все философы строили свои здания, находясь под обольщением морали, в том числе и сам Кант; что они обещали искать «правду», а на самом деле заботились только о том, чтобы построить «величественные нравственные здания». Сам Кант простодушно называл свою «не блестящую, но и не лишенную заслуг» задачу и работу средством «уровнять и упрочить почву для величественных нравственных зданий» (Критика чистого разума II 257). Увы! это не удалось ему. Даже наоборот!» – можно было бы сказать теперь. С такой фантастической целью Кант был истинным сыном своего времени, которое, более чем всякое другое, было временем химер; таким остался он, к счастью, и в отношении к более ценному явлению своего века – сенсуализму, который он заимствовал в своей теории познавания. Его коснулось жало и тарантуловой морали Руссо, в глубине его души лежала мысль морального фанатизма, исполнителем которого был Робеспьер с его de fondet sur la terre l’ empire de la sagesse, de la justice et de la vertu (Речь 7 июня 1794 г.). И чтобы создать свое «моральное царство», он видел себя вынужденным приставить еще недоказанный мир, логическое «по ту сторону», – для этого-то и понадобилась ему критика чистого разума. Говоря иначе, она не нужна была бы ему, если бы ему не потребовалось непременно свое моральное царство сделать недоступным нападкам разума; он чувствовал, что моральный порядок вещей слишком доступен для нападок со стороны разума. Принимая в расчет природу и историю, принимая в расчет отсутствие морали в природе и истории, Кант был, как и всякий хороший немец, пессимистом. Он верил в мораль не потому, что она была доказана природой и историей, а несмотря на то, что природа и история постоянно противоречили ей: credo, quia absurdum est.
Но моральным феноменом являются не логические суждения, а доверие к разуму, отчего зависит признание или отрицание наших суждений… Может быть, немецкому пессимизму предстоит еще сделать свой последний шаг? Может быть, он еще раз роковым образом поставит рядом credo и absurdum? И эта книга, проникнутая пессимизмом, вплоть до морали, вплоть до доверия к морали, – разве не несет она на себе печати немецкого духа? В действительности, она представляет собой противоречие, и не боится этого: в ней объявляется доверие к морали – почему же? Из способности к морали или, назовите как хотите, то, что совершается в нас! Нет никакого сомнения, что и в нас еще говорит – «ты должен», и мы еще слушаемся строгого закона над нами, и эта последняя мораль нам понятна, о существовании ее мы знаем: не где-нибудь, а именно здесь мы являемся еще