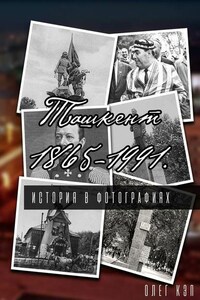Он пришел в себя на обломках разрушенного мира, в железной капсуле, покрытой царапинами и небрежными порезами. Кто-то уже намеревался нарушить его покой, стремился вытащить его из утробы, чтобы раньше времени вытолкнуть в оргиастическую реальность, – но цельнометаллическое покрытие не поддалось, капсула упасла свое содержимое, которое благополучно выбралось наружу и сперва не поверило, что уже не спит.
Существо стояло, вскинув голову и наблюдая руины мегаполиса. Это был не город, но его труп: скелеты небоскребов были согнуты и разбиты, клонясь друг к другу в приступе замогильной дремы. Изорванные сухожилия дорог безобразно спутались и с грохотом обваливались вниз, где грунтовые воды пожирали все, что оказывалось в их пасти. Внутренности города колыхались под ногами, подземные парковки рухнули и служили теперь ареной далеких разрушений, которые дрожью отзывались в ступнях и гулкими взрывами доносились до ушей. Урбанистический мертвец в особо бурной стадии разложения – вот что увидел вокруг себя выходец из железной капсулы, когда его глаза привыкли к невообразимой серости и сюрреализму окружающего пейзажа.
Он взглянул на собственные руки, словно ища в них ответы на свои вопросы. Изящные механические пальцы сгибались, поддерживаемые титановыми шарнирами, краска на ладонях была выцветшей и имела то ли коричневый, то ли тускло-зеленый оттенок. В грязной воде небольшой лужицы он разглядел отражение других своих членов: в меру широкие механические плечи, приплюснутый торс, обитый крепчайшим сплавом, продолговатые тонкие руки и атлетическую шею.
Но больше всего его поразило собственное лицо. Это лицо не было человеческим, хоть и сохраняло человеческие черты. Оно больше походило на лицо манекена, которое всеми силами стремилось выразить какую-то человеческую эмоцию, но вместо этого принимало лишь более неестественный вид, пустой и отталкивающий. Его искусственные глаза безучастно поблескивали голубыми зрачками, рот почти не шевелился, а брови отсутствовали вовсе. Увидев это лицо, которое, к огромному сожалению, было его собственным лицом, он издал низкочастотный вибрирующий вопль, с лязгом рухнул на колени и вцепился ладонями в гладкий затылок.
Так бы он и лишился рассудка – или того, что заменяло ему рассудок, – если бы ему вдруг не вспомнилось Имя.
Имя было прекраснее любой музыки. Оно наполнило его разум чем-то приятным на вкус и цвет, чем-то, ради чего стоило жить и ради чего легко было умереть. Это было Имя из далекого прошлого, артефакт той реальности, осколком которой был он сам. Каждый раз, когда Имя звучало в голове существа, его синтетическое сердце начинало грохотать с бешеной силой – и, видит Бог, даже крепчайшая обшивка не могла помешать ему вырваться из металлического плена.
Это отнюдь не было моментом просветления и возвращения в реальность. Он не пришел к мысли, что все происходящее на деле не является бурным сном и не отправился на поиски того, что помогло бы ему понять происходящее. Имя было для него лишь еще одной фантазией – более глубокой и несравненно более приятной, чем та, в которой он оказался. И если был хоть какой-то малейший шанс, эфемерный повод верить в возможность разорвать покров этой желчной грезы и прорваться туда, где Имя зазвучит яснее, – тогда он был готов пытаться, и готов был идти, и готов был страдать.
Но было еще кое-что. Оно не произрастало из глубины, как Имя, и не было настолько теплым и трепетным, настолько призрачным. Это был набор чисел, похожих на координаты, который существо понимало и помнило так же отчетливо, как школьник помнит таблицу умножения. Это была данность, занесенная в его память извне, отпечатанная внутри него ярким клеймом. Быть может, это и был ключ к тому, что он ищет, – во всяком случае, иных зацепок у него не было, как не было и дороги из желтого кирпича, которая привела бы его прямиком к обладательнице Имени. Оставалось лишь надеяться, что там, в загадочной точке рандеву, аксиома и апофеоз сольются воедино, вступят в священный брак, чтобы стать реальностью. А если даже не станут, то там, в этом месте, его направят на нужный путь, снабдят всем необходимым для его свершения и помогут обрести то, чего он жаждет больше всего на свете, – прикоснуться к Имени.
Так он решил, чтобы затем, обретя цель, вновь подняться на своих тяжелых ногах, выпрямиться в полный рост и сверкнуть безжизненными глазами.
Ветер завывал со страшной силой, пригибая к земле силуэты перекошенных столбов. Лязг металла в руинах небоскребов пел панихиду по усопшей нации.
А он вдруг побежал.
ㅤ
***
Робот (или человек?) остановился посреди широкой улицы. Слева была городская площадь, усеянная мусором и обгоревшими костями. Там же был небольшой парк аттракционов; детская черепушка выглядывала из кабины повалившейся на бок карусели. На высоком постаменте молчаливо стоял памятник, некогда возвещавший о былых победах гуманизма и человечности. Теперь он свидетельствовал о поражении людского рода, страшно фонил и не имел верхней половины туловища – та лежала рядом бесформенной грудой мрамора.
Справа, через дорогу, грозно возвышалась гигантская куча ржавого железа, разбитого стекла и колотого бетона; погнутые металлические двутавры торчали из этой насыпи, как иглы огромного ежа. Это был мрачный ров, исполинский могильник, который ранее являлся оживленным торговым центром. Теперь от великого множества магазинов и салонов, кафе и ресторанов, кинотеатров и игровых залов осталось одно лишь гигантское нагромождение мусора, в котором с трудом угадывалось былое наполнение, случайным образом сваленное в эту груду и перемешанное, точно игрушки непоседливого ребенка.
Он подошел к руинам и рассмотрел среди завалов покрытые пылью билборды. За толстым стеклом поликарбоната он видел лица людей – певцов, шоуменов, исполнителей, лидеров мнений ушедшей эпохи. Мир в одночасье переменил свои правила, если теперь, вместо всеобщей любви и обожания, их пассажи оказались не в ходу, а их лица лежали в грязи. Музыка затихла, улыбки исчезли; остались только лязг железа и апокалиптический гул – аккомпанемент гниения цивилизации, гимн тотального запустения.
Сам не зная зачем, он разглядывал афиши еще некоторое время, затем отвернулся и ринулся прочь. Радиацию он зафиксировал, едва выбравшись из своей металлической колыбели. C тех пор устройство, встроенное в его организм, не выявило ни единого клочка земли, где фон опустился бы до отметки, хотя бы допускавшей наличие живого существа. Радиация пронизывала это кладбище прогресса, проникала в каждую щель и каждый закоулок; где-то она оседала мощнейшими валами, а где-то струилась тонкими волокнами, но невозможно было найти места, на котором она не оставила бы свой знак. Фонили дома, фонили искореженные остовы автомобилей, фонили человеческие останки и мутноватые лужицы на рассыпавшемся асфальте – фонило все.