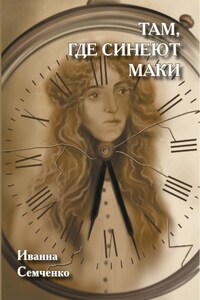В ста километрах от Кабула
Ночью Абдулла занял кишлак.
Абдуллу знали многие. Знала вся округа, знал уезд, в котором он родился, знал соседний уезд, знала провинция, которую он считал своей, и провинция соседняя.
Абдулла пришел в этот равнинный кишлак в половине одиннадцатого ночи, расставил посты, чтобы его не захватили врасплох части народной армии, от своего человека узнал, кто в кишлаке партийцы, кто активничает, с надеждой поглядывая в сторону народной власти, а кто еще только примиряется, и накрыл кишлак сетью. Кое-кого Абдулла поймал в эту сеть. Но несколько партийцев все-таки ушли.
– В Кабул понеслись зайцы за помощью, – усмехнулся Абдулла, помяв пальцами мягкое, лишенное растительности лицо. Сколько Абдулла ни пробовал, он никак не мог отрастить бороду и усы – продолговатое, с мягким женским абрисом лицо его всегда было голым. – Давайте, давайте, зовите помощь, ведите сюда! Тут мы вас, зайчики длинноухие, и прихлопнем! Пусть вам в этом праведном деле Аллах поможет!
Щеки у Абдуллы были покрыты крупными плоскими оспинами, бровей, как и бороды, тоже не было – почти не было, брови, как и волосы на голове, вылезли в детстве от странной болезни и больше не восстановились; кожа у Абдуллы была гладка и нежна, будто у женщины. Отсутствие волос делало Абдуллу несовершенным по мусульманским понятиям, и Абдулла, осознавая это, нередко вскипал от одного только любопытного взгляда, будто кумган, подвешенный за дужку над жарким костром, маслянисто-черные глубокие глаза его от ярости светлели, делались прозрачными, лишенными цвета, будто вода, и такой холод искрился, плыл в этой воде, что всем, кто видел глаза Абдуллы, делалось страшно, храбрецам становилось зябко: лучше в руки этого человека не попадать.
– А еще, муалим, у нас в кишлаке умные люди появились, – сообщил Абдулле верный человек и согнулся в поклоне: знал этот человек, что Абдулла любит, когда его называют муалимом – учителем. – Только не от Аллаха эти люди.
– А от кого? – спокойно спросил Абдулла. – Кем рождены?
– Они из Кабула. В Кабуле, как известно, Аллаха нет.
– Не гневи небо, в Кабуле шестьсот мечетей. Еще четыре года назад было только триста.
– Что кабульские мечети, муалим! Сырая глина! С гвоздями для электропроводки. Разве в старых мечетях была электропроводка? А муллы? Я был как-то в Кабуле, в мечети, там выступал мулла. Из кармана у него торчал партийный билет, щеки были разукрашены помадой падших женщин, а изо рта несло так, будто он по самое горло был налит кишмишовкой.
Губы у Абдуллы сжались в тонкую жесткую линию, гладкокожее нежное лицо с удлиненным черепом округлилось, глаза посветлели: несколько лет назад в Кабуле его угостили кишмишовкой – крепким, с дурным духом самогоном, сваренным из винограда, прозрачно-желтым, чистым, будто мед, а на самом деле таким, что за него надо бы тому, кто кишмишовку делал, вспороть живот. В кишмишовку для того, чтобы она была крепче, намешали разных дешевых таблеток. На них Абдулла попался – хватил стакан сгоряча – вначале вроде бы хорошо было, а потом чуть Аллаху душу не отдал – его выворачивало вместе с непереваренной едой, с кровью шла желчь, с желчью еще что-то, еще часа два Абдуллу рвало, пока окончательно не вывернуло наизнанку. Ослабший, оглушенный, с тяжелыми мозгами, он трое суток провалялся в постели. Еле-еле втащил свою телегу в гору, не помер.
Потом он пробовал найти того, кто его угостил этим ядом, специально ведь угостил, кафир[1], – не нашел, но потом, через полгода, все-таки наскочил на этого человека – видать, Аллах помог, и пока тот распространялся в любезностях, прижимая руку к белой рубахе, поверх которой была надета толстая шерстяная жилетка с двойной подкладкой, Абдулла вытащил из кармана нож с узким, беззвучно вылетающим лезвием и ткнул кафиру в глаз. Кафир захлебнулся в крике, в глотку ему словно бы попал камень; Абдулла, чтобы неверный не орал, будто осел, которому топором оттяпали хвост, зажал ему рот ладонью, вывернул голову так, что у неверного глухо хряпнули шейные позвонки, и опорожнил второй глаз. На прощание произнес одну, одну лишь фразу:
– Моли Аллаха, что я тебе вообще глотку не перерезал.
Вспомнив о неверном, чуть не отравившем его, Абдулла проговорил жестко:
– Всем глаза выколем, дай только время. Черед придет – выколем всем, всем!
– Муалим, в этом кишлаке открыли школу.
– Школу? Зачем?
– Я вот тоже спрашиваю – зачем она тут? И себя спрашиваю, и Аллаха – не нахожу ответа. Может, вы, муалим, ответите, зачем нам нужна школа? – Верный человек говорил смело. В следующий миг он испугался этой смелости и склонился в поклоне. Под рубахой у него обозначились остренькие, неестественно уменьшенные лопатки: тело верного человека было хилым, словно его редко кормили. Плевать в конце концов на тело, главное, человек этот имел хорошую ясную голову, лисье чутье и волчью беспощадность. Абдулла ценил верного человека, поэтому и позволял ему говорить накоротке.
– Ничего не отвечу я тебе на это, – проговорил Абдулла тихо и жестко, помял щеки пальцами, – в других кишлаках школ нет и тут не нужна. – Он подвинтил огонь яркой китайской лампы, горевшей на столе, несколько раз качнул насос. Сделалось светло, как днем, лампа загудела ровно и умиротворенно, будто походный примус. Хорошую продукцию производят соседи. И фонари у Абдуллы китайские, и автоматы Калашникова, и консервированные сосиски, и пуховики, чтобы не мерзнуть в горах, и «эресы» – легкие ракеты класса «земля – земля», – все китайское. Проговорил, тяжело глядя на верного человека:
– Ну?
– Кабул прислал в кишлак двух учителей, – верный человек вдруг дробно, как-то по-птичьи рассмеялся: – Оба дураки, но занятия ведут.
– Где они?
– Крепко спят и совсем не чуют, что не там ночуют. Койоты! Они здесь, в кишлаке.
– Учителя, значит. – Абдулла усмехнулся, глаза у него начали светлеть, наливаться опасной прозрачностью; заскользили, заметались в них ледышки, – счетные палочки за ушами, вонь изо рта, медленный голос, затрещины и непременное желание научить детей читать и писать, да?
– Да, и непременное желание научить детей читать и писать, – подтвердил верный человек.
– Взять учителей! – приказал Абдулла.
Учителей взяли – те не смогли сховаться, и время на это имели, и возможности, а не воспользовались. Молоды еще были учителя – оба только что из теплого гнездышка, именуемого техникумом, летать пока не научились, крылья тощие, пера мало.
– Чему взялись, спрашивается, учить детей? Тому, чтобы они были такими же голозадыми, как и сами? – Абдулла задумчиво огладил гладкое лицо, поднял испанский, дорого поблескивавший в свете лампы пистолет «стар», щелкал курком и, что-то переборов в себе, отвел глаза в сторону. – Сосунки! Надо бы посмотреть на них, но смотреть не буду.