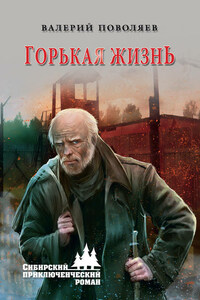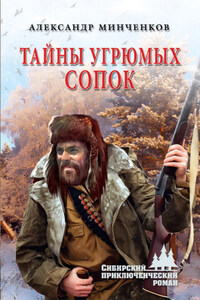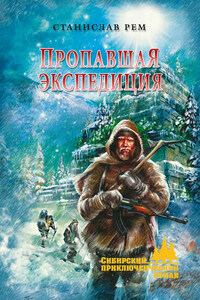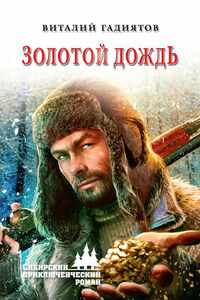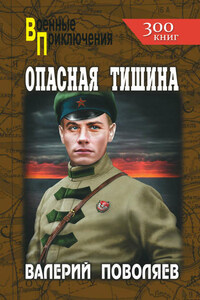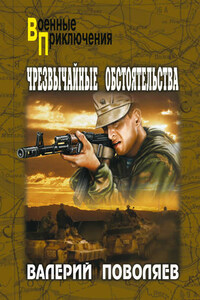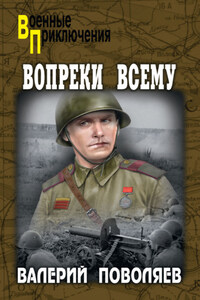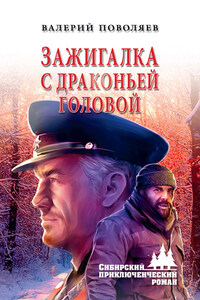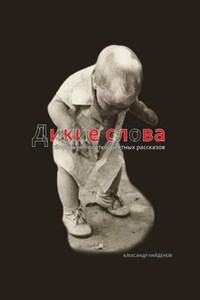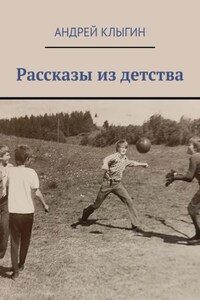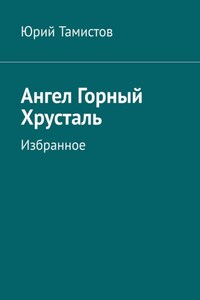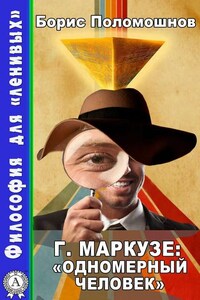Китаеву часто снился голодный, холодный, насквозь, до костей, промерзший, изуродованный чужими снарядами Ленинград. В Ленинграде Китаев пережил то, чего, наверное, мало кому доводится пережить – блокаду.
Даже во сне, когда он видит двух или трех исхудалых, похожих на тени женщин, волокущих за собою санки с трупом, чтобы оставить тело дорогого человека на площадке, откуда его солдатский грузовик – старенькая, с надрывным голосом полуторка – увезет на кладбище, в братскую могилу, Китаеву делается плохо – начинает замирать, тормозить свой бег сердце и становится трудно дышать. По коже ползут колючие мурашки, он их ощущает даже во сне, ворочается на жесткой вытертой подстилке.
Просыпаться нельзя, нужно еще чуть поспать, поднакопить силенок, иначе на тяжелой работе не выжить, поскольку в шесть часов утра у входа в барак загромыхает железный лемех, по которому, целя в самый низ звонкого бока, ударят обломком старого коленчатого вала, изъятого из раскуроченного мотора «Уралзиса», возившего охранников, и тогда о сне можно будет только мечтать.
Сон переместится в разряд воспоминаний.
Поэтому приходилось досматривать жуткие блокадные видения, видеть серый, шевелящийся под напором мороза снег, серое небо, серые разбитые улицы, которые были завалены сугробами, а расчистить их у людей не хватало сил, так что судьба у улиц была одна – быть грязными, забитыми мусором, льдом, снегом до весны, а там солнце пригреет, приберет, помоет улицы, приведет в порядок и весь мусор с талой водой сбросит в каналы.
Выжить в Ленинграде многим помогали бытотряды, – их создавали при райкомах комсомола, – в первую, самую лютую блокадную зиму они хоронили мертвых, во вторую подсобляли ослабшим – носили воду, хлеб, топили железные печушки-времянки, затыкали пробоины, оставленные снарядами. В третью зиму блокада уже была прорвана.
Китаев сам был бойцом бытотряда, каждый вечер отчитывался за свою работу, писал секретарю райкома донесение – спас столько-то человек… И преувеличения в этом не было – на счету бойцов бытотрядов ежедневно оказывались десятки, а то и сотни спасенных людей, в основном, старых.
Дом, где жили Китаевы, постепенно вымирал – от голода, от холода, от ран. По опустевшим квартирам гулял ветер, углы стен промерзали насквозь. Когда допекали морозы и обогреваться было нечем, из пустых квартир этих волокли все, что могло гореть – книги, мебель, тряпки, портьеры; выколупывали паркет, срубали двери… Страшно было. Даже на фронте не было так страшно, как в городе.
Семья Китаевых дружила с другой семьей – Голубевых, живших через стенку, хотя и в соседнем подъезде – несмотря на разные подъезды, стенка у них была общей. Голубевых было трое – мать Екатерина Сергеевна, ученый человек, известный в городе исследователь морских течений, в том числе и балтийских, сын Трофим, пошедший по стопам покойного отца и ставший железнодорожником, и жена Трофима Вера, работавшая в обувной промышленности, в управлении и, видать, бывшая там приметным лицом – всегда щеголяла в новых модных туфлях, сшитых по заказу в экспериментальном цехе обувной фабрики «Скороход». И ей было, чем щеголять, – на достойных ножках «скороходовские» туфли смотрелись не хуже итальянских. Была Вера Голубева броской блондинкой с искристыми глазами и чувственным ртом. Многие считали, что Трофиму она не пара, хотя сам Трофим так не считал.
В конце января сорок второго года, в самую мучительную пору, когда от голода, кажется, уже вымер весь Ленинград, в дверь квартиры Китаевых раздался стук. Сам Володя Китаев, согнувшись в три погибели над хлипкой жактовской печушкой, жарил блинчики из горчичного порошка. Никаких других продуктов в доме не было, только горчичный порошок, да и тот Володина мама достала случайно. Блинчики из него получались, естественно, никакие, но если пару дней порошок повымачивать, постоянно меняя воду, то часть горечи из него уйдет и тогда можно будет лепить блинчики. Чтобы блинчики не подгорали, опытные блокадники жарили их на воде, либо машинном масле.
У Китаевых было немного масла – перед войной купили целую поллитровку, чтобы смазывать ножную швейную машинку, – у Голубевых был знатный «Зингер» – теперь это масло пригодилось для других целей. Сегодня Володя жарил на нем горчичные блинчики. Сизый чад хлопьями плавал по кухне. Мать, конечно, пожарила бы лучше, но она, ослабшая окончательно, лежала на постели и не поднималась.
Поначалу Китаев стука не услышал – сам слаб был и почти оглох на оба уха, а потом услыхал и, поморщившись недовольно – слишком уж от важного дела его отрывали, – пошел открывать дверь.
На пороге стояла Вера Голубева, опухшая, с серым лицом и тусклыми, словно бы погасшими глазами.
Китаев поклонился ей:
– Здравствуйте, Вера!
– Я пришла попрощаться, – тихим, лишенным всякого выражения голосом произнесла соседка. – Екатерина Сергеевна и Трофим умерли…
– Господи! – невольно вырвалось у Китаева.
– Их больше нет, – у Веры дернулась голова, будто ее пробил электрический ток, – тела я отвезла на кладбище, – в горле у Веры что-то булькнуло. Это были слезы.
– Господи! – вновь вырвалось у Китаева.
– Квартиру я забила досками, чтобы никто не забрался. Ежели что, присмотрите за ней, пожалуйста.
– Присмотрим обязательно, – тут голос у Китаева сорвался, что-то с ним произошло, он не мог больше говорить – слишком ошеломляющей была новость о смерти соседей.
Впрочем, в блокадном Питере, как на фронте, человек, узнавая о чьей-то смерти, почти ничего не ощущает… Линия фронта проходила совсем рядом с городскими кварталами, до окопов можно было добираться на трамвае – прямо на передовую ходил вагон, соблюдал расписание. В Ленинграде со смертью были также хорошо знакомы, как и на Пулковских высотах, и на Невском пятачке, и на Ладоге, и среди проломов во льду «дороги жизни»…
Немцы обстреливали Ленинград по одиннадцать часов в сутки, снарядов не жалели, но от голода людей все равно погибало больше, чем от обстрелов.
– Как же так, как же так? – у Китаева прорезался зажатый голос, – немного отпустило, – собственно, это даже не голос был, а шепот, незнакомый, какой-то дребезжащий, ржавый, – Екатерина Сергеевна и Трофим умерли, а мы и не знали.
– Ничего не поделаешь, – пожала плечами Вера. – Это жизнь.
– Это не жизнь, а смерть, – поправил ее Китаев.
Когда Вера ушла, уже не хотелось ни есть, ни блинчики жарить – Китаевым овладело странное, знакомое многим голодным людям равнодушие, когда ничего не хочется, ничто не привлекает внимание, весь мир, все предметы вместе с воздухом бывают окрашены только в один цвет – серый, – и человек ничего не ощущает, даже боли.