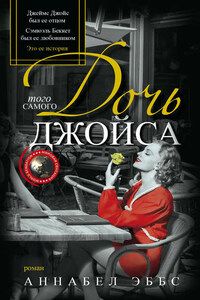Девушке нелегко одолеть одного отца, а между мной и предметом моих желаний их стояло двое, и желала я – чтобы не тянуть кота за хвост – славного паренька по имени Коротышка Бобс.
Первый отец был мой собственный. Когда он узнал, что я, его крошка Айрин, его мышонок, его миниатюрная мадемуазель, сама предложила пожениться мужчине ростом в пять футов три дюйма[1], он поперхнулся хлопьями «Пшеничные».
Отец Коротышки был вторым. Он выскочил с порога, пытаясь всячески угодить. Я была красоткой, бобби-дэззлой[2], пока в коридоре возле вешалки он не дал мне повод съездить ему по лицу.
Сестра была старше меня и «опытнее». Она не могла понять, зачем мне такой маленький муж. Я планирую вывести стайку мышей? Ха и еще раз ха. Беверли сама была пять футов и два с половиной дюйма ростом и вечно расторгала помолвки, то с долговязым Лёрчем, то с великаном Дино, то со знаменитым футболистом, чье имя мне хватит соображения не называть. Я бы побоялась пожать ему руку, не говоря уж о всяком прочем.
Беверли сама постелила себе постель и получила то, чего можно было ожидать: тридцатичасовые схватки и головы с тыкву. Мои детишки были крошечные и хорошенькие, в папочку, безупречные в смысле пропорций, ладных ручек-ножек, розовых щечек, унаследованных от Коротышки, улыбчивые в меня. Сестра не могла вынести моего счастья. Она годами искала доказательства «липы». Когда ее первый муж сбежал в Новую Зеландию, она написала мне злобное письмо, дескать, я больше интересуюсь своим мужем, чем детишками. Она говорила, что ее мальчики для нее – всё. Она-то знала, писала она, что я вышла замуж за Коротышку только из-за денег. Она была расстроена, конечно. Как же иначе? Она вышла замуж за мерзавца. Развод оставил ее «без гроша», так что теперь она просила разрешения вернуться в отчий дом, который мы обе унаследовали и продаже которого ей всегда удавалось помешать. Возможно, нам с Коротышкой пригодились бы эти деньги? Она не спрашивала. Изменили бы они нашу жизнь? Конечно. Я согласилась на номинальную ренту и оставила свои чувства при себе.
Беверли любила говорить, что я своенравна, эту мысль она переняла у мамы. Но маме нравилось мое своенравие. Она приходила в восторг, когда я добивалась своего. Конечно, она была почти такой же, мама-то, а еще у нее были уж такие ровные зубы и красивые скулы – за ее улыбку можно было отдать все на свете, даже купить ей стиральную машинку. Она убедила папу приобрести «форд», и именно так Коротышка оказался у нашей двери в Джилонге, в штате Виктория, в Австралии. В Европе праздновали День Победы, 8 мая 1945 года.
Никто никогда не узнает, как мама планировала использовать «форд». Ездить в Колак к сестре после церкви? Даже отец не мог в это поверить. Не важно. Он все равно выписал чек продавцу, Дэну Бобсту, который, как я обнаружила, когда открыла дверь в День Победы, приложил к машине «бесплатные» уроки вождения от своего сыночка. О боже, ну и видок был у этого сыночка, стоявшего на нашем крыльце с картонным чемоданом тем воскресным утром. Оказалось, он будет жить у нас.
Увы, бедная мама, ей так и не довелось вставить ключ в зажигание; все были так опечалены и заняты похоронами, и потому никто не сказал молодому человеку, что он должен уехать. Ему негде было остановиться, и он распаковал свое «портманто» и «ожидал указаний», как он позже любил вспоминать. «Форд» был припаркован возле дома, без всяких признаков, что он – часть наследства.
Маму похоронили на кладбище Маунт-Данид, и наш новый жилец был единственным, кто помог мне разобрать ее вещи. Он не напоминал о машине или уроках, которые собирался давать усопшей. Он спросил меня, умею ли я водить. Я ответила, что, если бы он пришел домой в шесть вечера, мы бы напоили его чаем. Посреди всей этой тоски ладный краснощекий мужчина был большим утешением, от которого я не могла отказаться. Я затаила дыхание. Состряпала ему ужин, а он дочиста все подъел на своей тарелке и помог мне вытереть посуду. Он был опрятным. Когда я плакала, он меня утешал. Он рассыпал тальк на полу в ванной.
Ночами на Вестерн-Бич, когда слышался скрип сиротливых якорных цепей старых военных судов в заливе Корио, он рассказывал мне истории о своем отце, представлявшиеся ему смешными. Они оказались важней, чем я думала. Как бы то ни было, у меня глаза пылали огнем, когда я слушала, что славный паренек сломал руку, крутя винт чертова отцовского моноплана, и что старый лиходей научил его приземляться, сидя за ним в кресле штурмана и колотя по хрупкой сыновней спине кулаком, пока тот не выжимал штурвал вниз, как следовало; что он бросил его у пары старых холостяков-ирландцев в Булленгаруке, пока те учились водить купленную у него машину. Сынка прозвали Коротышкой, хотя порой он бывал Заком, как называют в Австралии шестипенсовик, то есть полшиллинга, или пол-«боба», раз отец его Бобст. Забудьте. Он всегда был Коротышкой, боже правый, и меня, похоже, отправили на землю любить твое измученное тело и бесовски веселую душу.
Как я могла предсказать, милая Беверли, куда приведет меня желание моего сердца? Когда я впервые увидела Коротышку, наш папа был еще жив. Мои малыши еще не родились. Я не умела водить машину. Эра борьбы «холдена» против «форда» еще не наступила. Не начались еще даже заезды «Вокруг Австралии» – испытания надежности «Редекс»