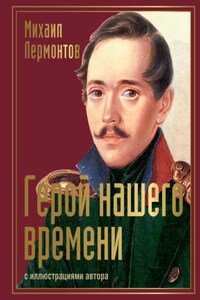Вступление
Из книги «Заметки читателя»[1]
Раздумывая о странностях своего пристрастия к книгам и пытаясь создать некую личную, во всяком случае оправдывающую мои наклонности и даже придающую им силу, философию читателя (а потребность в ней ужасно назрела, если принять во внимание, что я зачитался уже до изумления и никакого разумного выхода, кроме как отправиться к праотцам, из этого заколдованного круга не видится), не могу не вспоминать одного человека, пожелавшего разъяснить мне, что бессмертие души, бесконечность пространства, вечность – все это глупые выдумки, химеры ограниченных умов и пугливых душ.
– А правда, – крикнул он, – в бесконечном творческом самосозидании Вселенной, и люди, сумевшие включиться в великий процесс космического строительства, космического искусства, проживают жизни, переходя со ступени на ступень и приближаясь к совершенству, до тех пор, пока хватает у них творческой силы.
Сам он, этот человек, много пишет о подобного рода созидателях, в особенности о представителях русского космизма, а все это для нас уже тени прошлого, и он хотел бы открыто описывать их нынешнее положение, но сомневается, будет ли это научно в глазах непосвященных.
Поразительное происшествие заставило его от смутных подозрений перейти к знанию о существовании более высоких, чем наш, миров, и состояло оно в следующем. Взяв в редакции свежий номер выпущенного в свет журнала с его статьей об одном замечательном провинциальном философе и мечтателе, он лег дома на диван и, чего обычно не делал, прочитал всю эту статью от корки до корки, прочитал с несколько неожиданным для него волнением, как будто что-то новое и потрясающее, а только закончил чтение – философ уже тут как тут и хотя ничего не говорит, никак даже не материализовавшись, а сообщается все же, присутствует, смотрит проникновенным взглядом.
И сейчас, когда он пересказывал мне этот случай, дрожь пробежала по телу моего приятеля, и чуть ли не встали дыбом его волосы, но это не помешало ему с какой-то практичностью оговорить, что мне, например, нечего рассчитывать как-то здесь присоседиться, тоже пристроиться. Каждому, известное дело, свое, каждый получает после смерти то, что заслужил при жизни, каждый сам строит свое загробное будущее; а иной не получает ничего. На иную жизнь нет отклика ни в одном из уголков бесконечного созидания, и для человека, прожившего впустую, смерть означает не что иное, как бесследное исчезновение.
Я же хочу сказать о том, что маленькая и отрадная вера рассказчика имела все основания стать благостной и исполненной умиления, но он словно немножко помешался, овладев ею, и потому она стала болезненной, резкой и неприятной. А поскольку при этом осталась все равно маленькой, то приняла вид какого-то несчастного и глупого наваждения.
Мой приятель больше не смог просто жить и работать, он теперь уже примеряется, пристрастно, едва ли не придирчиво выбирает, о ком бы написать, чтобы впоследствии встретиться и сотрудничать с угодным ему человеком, а не с тем, с кем возможны недоразумения и сложности. А зачем он рассказал мне свою историю, эту историю своего открытия, не могущего не быть сомнительным в моих глазах? Захотел похвастать, обескуражить меня, поделиться новостью, что у него все хорошо, что он отлично и с завидной ловкостью устроил свое будущее? Но я-то вижу что у него как раз все очень даже нехорошо.
Прежде он, касаясь круга вопросов, и для меня не безразличных, т. е. вопросов литературных, рассуждал вполне здраво.
– Странная выходит штука, – говаривал, бывало, он, – многотысячными тиражами некогда издавали Владимира Козина, а теперь его книги словно корова языком слизала, разве что в специализированных библиотеках сыщешь; или, к примеру, вполне прилично издали в последнее время Алексея Скалдина, Николая Никандрова, а эффект почти нулевой.
Он задавался резонным вопросом: почему выходит такая странность? Почему на людей не производит впечатления явление даже и великой книги? Творческий человек, предполагаем мы, действительно должен мучиться, но у моего приятеля, скрывать нечего, мучение нынче сделалось бесплодным и лишним, бесполезным, и совершенно не понять, почему так.
Раньше он поднимался даже до глубокого, философского, прямо настраивавшего на самопознание вопроса о тайне, заключенной в нем, беспокоился, что в нем за подкладка и начинка такая, что он, не в пример большинству, интересуется всеми этими старыми книжками и, может быть, уже основательно подзабытыми идеями, ночей не спит из-за давно умерших людей, все думает, как бы сделать так, чтобы след, оставленный ими, не остался незамеченным?
Откуда это взялось? Свалилось на него откуда-то или само в нем развилось? Но сейчас впору спросить: куда все это подевалось? В нынешнее время он, нахмурив брови, сосредоточенно перебирает книжки, перебирает имена, сортирует людей и не радуется открытию, а дотошно соображает, достойно ли это, открытое им, наличия, присутствия в его будущем сверхъестественном бытии.
Человек жаждет совершенства, как он его понимает, а оно невозможно, и в результате человек уединено мучается в тесном мирке своих переживаний, своих истерических мечтаний о несбыточном. И это не случайное замечание.
У меня есть своя трепетная, навязчивая, почти что парадоксальная думка, имеется свое индивидуальное мучение. Оно о забытых и полузабытых писателях, о задвинутых в тень или неверно, на мой взгляд, истолкованных книгах. Ну, неверно! – как это может быть? Среди массы истолкований всегда найдется удовлетворительное, лучшее, вполне верное, даже по-своему окончательное. Я выражаю лишь надежду высказать о некоторых книжках не то чтобы нечто совершенно новое и оригинальное, а свое, личное, выделить в них что-то особенно поразившее мое воображение.