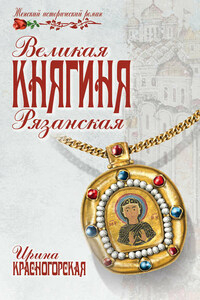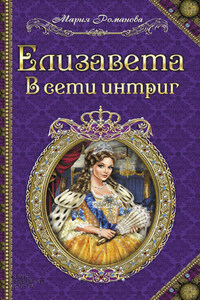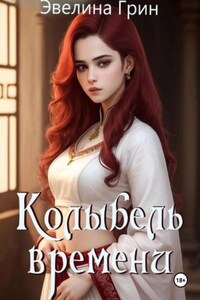Часть первая
Дочь великого князя Московского
1
Ещё-ещё-щё-щё-щё!
– Марьюшка, да ухватись же за рушник! Упрись, упрись в меня ножками. Да не сюда, не сюда – в грудь. Ничего ей не поделается. Господи, никак опять сомлела? Что же делать? Царица Небесная, помоги!
Свекровь и бабки-повитухи сбились с ног у постели великой княгини Московской Марии Ярославны.
– Курицу бы теперь, несушку…
– Да где ж её возьмёшь в такую пору? Побрызгайте на лицо! Скорее! Да не так, всё вас, неумех… Ноги поднимите. А ветер-то, ветер. Всё из-за него. Ни зги не видать. Ещё свечей! Эх, не к добру днём свечи жечь. Да разве в такую непогодь… Слава тебе, порозовела. Ещё-щё-щё… Нет, опять. За Тимошкой беги, блаженным. Да икону захвати, ту, что восет[1] в огороде нашли, Чудотворную…
– Перед ней князь молится.
– Скажи, я велела.
Внесли икону, тёмную, тусклую, византийского письма. Едва угадывалась на ней святая Анна, большеглазая, тонконосая, с указательным пальцем на крохотных губах.
– На грудь клади.
– Так не преставилась же…
– Клади, кому говорят!
Вбежал Тимошка. Волосы на темени вздыблены, у висков срезаны наголо, руки прячутся в широких рукавах, ноги босые высоко заголены. Захлопал руками-крыльями, зазвенел цепями да колокольцами, закудахтал несушкою. Помчался вокруг постели роженицы. Всё быстрее, быстрее, быстрее.
– Ещё-ещё-щё-щё-щё! Ну, наконец-то! Слава тебе, Царица Небесная! – Софья Витовтовна утёрла рукавом пот со лба, грузно осела на подставленную бабкой скамью.
И разъяснило в одночасье.
Бабки и близкие княгини не сразу это заметили, занятые теперь уже новорождённой: она не желала кричать. Поняли, что посветлело в ложнице[2] и ветер стих, когда княгиня Мария Ярославна неожиданно ясно и громко сказала:
– Благодать!
Этим вот впервые за три дня без крика и стона произнесённым словом и нарекли девочку. То есть нарекли, конечно, иначе – Анна. Но всем известно было тогда, на исходе зимы 1451 года, что это одно и то же.
Имя тихое, мягкое, словно шелест майской травы. Так же звали и родную, покойную тётку девочки, выданную за византийского царевича и ставшую потом женой императора, так звали и прабабку её, мать Софьи Витовтовны.
«Анна-Анна» – вызванивали колокола над Московским Кремлём; «Анна-Анна» – тоненько вторили им, скрипели полозья княжеских саней, увозивших великую княгиню-мать Софью Витовтовну от великокняжеского терема. Княгиня отъезжала к себе на двор, в Ваганьково, отсыпаться.
Искрились сугробы, сверкали инеем деревья. Хохлатые сойки обклёвывали всё ещё рясную[3] рябину. Ягоды осыпались в снег, складывались на нём в нарядные узоры.
У лобного места на Красной площади собрался праздный люд. Грызли конопляные семечки, уминали сапогами снежные намёты. Ждали. Выстроились в очередь, ожидаючи казни (кому палец, кому руку, кому и голову под топор класть), воры, лихоимцы, разбойники.
Палач сметал с колод снег, и он порошился, белый-белый. Галдело рассаживалось на крышах ближайших лабазов и лавок возбуждённое вороньё.
Перед санями великой княгини толпа нехотя расступилась. Осуждённые глядели на княгиню с надеждой, зрители с недовольством зашептали, не очень таясь:
– Ну вот, принесла нелёгкая. Сейчас особое повеление объявит.
– Не иначе дитя народилось в княжеских хоромах. Вон ведь как звонарь благостит[4], надрывается прямо.
– А может, так явилась – поглазеть?
Княгиня подъехала к каменному возвышению. Тяжело поднялась в санях и крикнула зычно, удивительно зычно для своих преклонных лет – приближалось к восьмидесяти:
– Во имя святой Анны казнь ныне отменяю! Всех милую!
Палач метнул в колоду топор – сверкнуло лезвие, брызнули в снег деревянные крошки.
– Трухлявая, менять надо, – зло сказал палач и пнул колоду.
Едва успели нянюшки завернуть новорождённую в нагретые пелёнки и принести её в особую младенческую горницу, как вошёл в неё великий князь Василий.
Полюбоваться, взглянуть (может быть, удостовериться?) – ни один из этих глаголов не подходит, чтобы верно передать цель княжеского прихода. Несколько лет великий князь Московский Василий Васильевич был незряч и обзавёлся уже приставшим к его имени на века прозвищем Тёмный. Василий Тёмный.
По княжескому терему и подворью передвигался он к тому времени уверенно и споро. Хорошо помнил, где что стоит и лежит. Требовал, правда, чтобы у вещей сохранялось постоянное место. Узнавал по шагам и дыханию домочадцев и слуг. Когда же ему предстояло с кем-нибудь знакомиться или принимать иноземных гостей, брал с собой старшего сына Ивана, мальчонку семи-восьми лет, и тот нашёптывал, как выглядит, как держится новый человек.
«Очи мои ясные» – говорил о сыне князь, а дворня между собой называла княжича обидно: «Поводырь». Иван узнал прозвище и плакал. Чтобы не позорить сына, чтобы утвердить его право наследовать престол, Василий объявил его, десятилетнего ещё, своим соправителем. И перед новоявленной сестрёнкой, которую отец бережно держал, Иван стоял, уже наделённый властью, и привычно, прилежно нашёптывал:
– Маленькая, с локоток. Личико шафрановое, круглое, как тыковка. Глаза закрыты. Носа нет. Почти. Одни ноздрюшки.
– Пригожая?
– Важная, – уклончиво ответил Иван, сестрёнка ему не понравилась, и добавил, чтобы утешить отца, – очень важная.
– Ничего, – усмехнулся князь, – к свадьбе выровняется. Положи-ка, Ванюша, княжну в зыбку.
Иван не мог дотянуться до зыбки, хотя и встал на цыпочки (зыбка, покачиваясь, уходила из-под рук), но помощи подскочившей няньки не принял, крикнул обиженно:
– Я сам, сам!
– Да сам, батюшка! Чего уж не сам, – поспешно согласилась нянюшка и, перепугавшись, что он не удержит сестрёнку, быстро опустила зыбку. – Клади полегонечку. Вот сюда, головкой на север.
– Не уроните ребёнка, ироды, – предупредил князь, когда девочку уложили.
– У иноземцев, сказывают, – заговорила нянюшка, – детишек с младенчества на лежанках пестуют. Они от…
– В зыбке – здоровее, – отрезал князь. – А вы, няньки-мамки, с княжны глаз не сводите. Да смотрите, чтобы её не сглазили. Девчонка хилая. Восьмушка пуда в ней, не более.
– Восьмушка с четвертью.
– Ну, четверть эта к вечеру плачем изойдёт. Кормилицу надёжную подобрали?
– Матушка твоя, великая княгиня Софья, сама её назначила.
– Пусть кормилица придёт после вечерни. Я на неё посмо… покажется. Заходить к вам буду каждый день.
Няньки поклонились в пояс.
– Идём, сынок, к матушке. Чай, уже можно, – и князь, опережая сына, поспешно направился к дверям, забирая, однако, несколько правее.
– Косяк, ах, батюшки! Косяк! – всполошились няньки.
– Косяк! – передразнил князь. – Раскудахтались. Понабросали тут лохманины. Убрать немедля! – и, отбросив ногой половик, очень точно скользнул в узкую низенькую дверь.