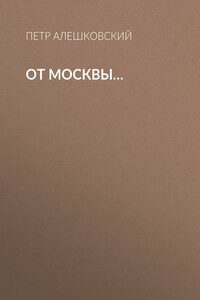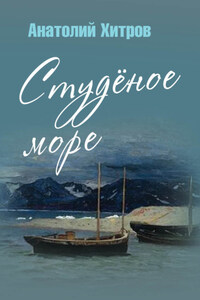Письма русского путешественника
Александр Беляев
Вьетнамерение
Новое литературное обозрение
Москва
2024
УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Б44
Александр Беляев
Вьетнамерение / Александр Беляев. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – (Серия «Письма русского путешественника»).
Самолет «Ил-86» рейсом Москва – Хошимин летом 1994 года летел десять часов и совершал промежуточную посадку в Дели. Так начинается рассказ Александра Беляева о детских и юношеских годах, проведенных во Вьетнаме – стране, уже пережившей войну и колониальный опыт. Центральный рынок «Бен Тхань», известный среди советских как «Сайгон-базар», рынок в «Тхань Де», где можно купить настойки на змеях, гекконах и морских коньках в огромных стеклянных бутылях, уличные забегаловки, где подают «супчик фо», «супчик лао» и «сайгонские блинчики», вечерние дискотеки, на которые съезжалась молодежь на роскошных мотоциклах типа «Хонда-стид» и «Ямаха-вираго», где танцевали под Ace of Base и Dr. Alban… Автор дает памяти отфильтровать все лишнее и оставить самые выразительные детали, выхваченные взглядом растерянного ребенка. И в то же время этот взгляд, переданный уже сформировавшимся автором, не менее пристально сфокусирован на окружающих рассказчика взрослых – советских людях, вдруг оказавшихся в постсоветском мире. Александр Беляев – поэт, переводчик, японовед, теоретик и практик ориентального письма, автор книг «Листья гинкго» и «BUNGEIRON. Взгляд на японское письмо».
В оформлении обложки использован фрагмент карты Вьетнама. Ок. 1885–1890. Библиотека Конгресса США.
ISBN 978-5-4448-2436-8
© А. Беляев, 2024
© Ю. Васильков, дизайн обложки, 2024
© ООО «Новое литературное обозрение», 2024
Отныне переход стал возможен. Между жизнью и мной время проложило тропинку, и она длиннее, чем я успел пройти. Через двадцать лет небрежения я отправляюсь на свидание с прошлым опытом, некогда отказавшим мне в глубине, но теперь я пройду этот путь до конца, чтобы постичь его смысл и сделать по-настоящему своим.
Клод Леви-Стросс. Печальные тропики
Писатель, который написал эту книгу, лицо вымышленное, большинство других персонажей реально существовали1.
Милорад Павич. Другое тело
Видят ли все эти исступленно танцующие
и одержимые злым духом религии люди
Великий танец, который бог исполняет
на сцене вселенной?
Рамалинга Свами. Стихи о священной милости. Перевод А. М. Пятигорского
…Но и об этом в буддизме можно думать по-разному, а может быть, и нужно думать по-разному, ибо учение Будды в изложенном здесь несколько обобщенном виде предполагает, на мой взгляд, полное свободомыслие.
А. М. Пятигорский. Четыре беседы о буддизме. Беседа четвертая
Самолет «Ил-86» рейсом Москва – Хошимин летом 1994 года летел десять часов и совершал промежуточную посадку в Дели. Помню Тадж-Махал из иллюминатора: волшебный дворец слоновой кости из восточной сказки, сияющий эффектной подсветкой в кромешной ночи, а перед этим, из того же иллюминатора, но в другом секторе обзора – огромное, фиолетовое в черноту и свинец, кишащее грозовыми молниями облако, будто огромный, воспаленный мозг. Мне было страшно, я боялся, что молния шарахнет в самолет, и мы упадем, и я так и не увижу… Но все обошлось. Когда самолет сел, пассажиров выгрузили и посадили в автобус с гармошкой, какой-то винтажный, если не сказать допотопный, колониально-антикварный, совсем не похожий на московские желтые «Икарусы» аналогичной конструкции. Мягкие сиденья того индийского автобуса напоминали сиденья в старых сине-желтых вагонах московского метро образца восьмидесятых. Когда автобус подъехал к зданию аэропорта, я встал со своего сиденья: на том месте, где я сидел, образовалась натуральная лужа. Стопроцентная влажность, дышишь практически водой, потеешь как в парилке на верхней полке. Куда я попал? Теперь так будет всегда? Надо отращивать жабры? Я должен расплачиваться за безумные фантазии своего тезки-однофамильца и стать человеком-амфибией? Слава индийским богам, мы ждали всего около часа, за это время самолет благополучно дозаправился и полетел дальше согласно заданному курсу уже без особых приключений, кроме неизбежной турбулентности.
Я живу очень далеко.
Морис Бланшо. За дружбу
Первым воспоминаниям положено быть самыми яркими, но от долгого, выматывающего перелета как раз они-то и не сохранились. Ни аэропорта, ни самого первого впечатления от Сайгона у меня не осталось. Потом я посмотрел по карте и увидел, что улица, по которой мы ехали из аэропорта, по идее, должна была бы называться улицей Пастéра (наши эмгэушные хохмачи называли ее исключительно «улицей пáстера», которая логично продолжалась «улицей пастера Шлага»). Химия в школе – да и сама школа – у меня еще не началась – я только-только закончил шестой класс, удачно проскочив четвертый, и к тому же прилетели в Сайгон мы в июле – и потому я не знал, кто такой Луи Пастер, изобретатель пресловутой пастеризации. Узнать об этом мне случилось как раз в ближайшие годы, в школе при консульстве, которое было хоть и в отдалении от означенной улицы, но все же было. Этот гений места не замедлил заявить о себе. Но прежде химии была ботаника, причем настоящая, окружающая, а не школьная. Сейчас я думаю, что первым моим сайгонским впечатлением были огромные деревья, росшие в городе вдоль дорог и вообще повсюду. Высоченные, неизвестные, какие-то величественные, вечнозеленые, как и все здесь, с красивыми беловатыми, желтоватыми и розоватыми цветами и корой непривычной фактуры. Вторым впечатлением была гостиница, где я постепенно приходил в себя после перелета.
Мне часто снится отель «Дельфин».
Харуки Мураками. Dance, dance, dance…
Гостиница, в которой мне предстояло жить ближайшие ровно два года, называлась «Тхань Да», что переводится с вьетнамского «С ветерком». Разумеется, я никогда не проверял по словарю, как переводится это слово, или эти два слова, просто как-то это было всем известно, все так говорили, и даже если на самом деле название переводится как-то иначе, теперь, когда я пишу эти страницы, мне это так называемое точное знание совершенно ни к чему. Для меня «Тхань Да» означало, означает и будет означать «С ветерком». Номера этой гостиницы были обставлены мебелью красного дерева – звучит богато, но дело в том, что другой древесины тут попросту нет, поэтому даже ручка от вантуза делается из красного дерева. Пара кресел, диван, журнальный столик – этот стандартный ансамбль имелся в каждой комнате, которую можно назвать гостиной. Из типовых украшательств интерьера – зеркало и висячие нитяные занавеси из мелких морских ракушек беловато-бежевато-рыжевато-коричневатых оттенков. Какое-нибудь растение с крупными, мощными, сочными листьями в горшке. В спальнях – широкие кровати, по углам которых приторочен реечный каркас, к которому прицеплена противомоскитная сетка: капроновая, белая или голубоватая. Прикроватные тумбочки (опять красное дерево с белой пластмассовой идиотской облицовкой; верхний выдвижной ящик, под ним дверка в основное отделение, удивительный запах этой необработанной, даже неошкуренной, с занозами, древесины), рабочий стол, который можно поставить в любую комнату, и даже со временем попросить второй, если требуется, и самое важное – единственный в номере кондиционер, чаще всего советского производства – крепился под окном спальни вопреки всем законам конвекции, о которых, впрочем, я тоже ничего не знал, пока не столкнулся на практике, в быту. Крошечная кухонька с еще более крошечным балкончиком, выходившим во внутренний дворик-колодец. Ванная и туалет – единое, небольшое пространство. Ванны, собственно, никакой нет. Просто раковина сразу за дверью, а дальше, у стены с небольшим окошком – душ, вода из которого стекает по чуть наклонному кафелю в отверстие в углу, в другом углу – унитаз, над которым висит огромный водонагреватель. Никаких перегородок или занавесок. Процедура принятия душа означала воду и брызги по всему пространству. Кафельный пол во всем номере казался продолжением пола в ванной с его сливной водостойкостью. Оно и понятно: сильная влажность, сезоны дождей, все построено как будто бы с учетом возможного наводнения, и не важно, на каком этаже ты живешь. Полы можно мыть как корабельную палубу, ходить везде босиком или в шлепанцах-вьетнамках, носки не нужны, да и вообще та масса одежды, которая необходима в отчетливо разносезонной Москве, здесь сводится к летнему минимуму: шорты, футболка, какая-то легкая обувь. Все эти обстоятельства нового быта попервоначалу казались мне какими-то слишком открытыми, слишком неразграниченными, как будто разом отменены какие-то важные различия и разграничения: между улицей и домом, между спальней и ванной… Иная действительность показала мне, насколько в моем детском, выросшем в Москве, сознании все разграничено, перегорожено, все в коробочках, ящичках и пакетиках… там еще долгие и глухие слои и катакомбы незнакомых по опыту коммуналок и хрущевок, знакомых панельных многоэтажек и прочей рухляди, а тут – солнце, воздух, вода, влага, зелень, минимум одежды, никаких тебе больше носков и шнурков… Ладно шнурки, но оказалось, что расстаться с носками московскому ребенку психологически не так-то просто, на это ушли месяцы. Я с трудом привыкал к непривычным условиям, но зато потом уже все оставшееся время мне казалось, что иначе и быть не может.