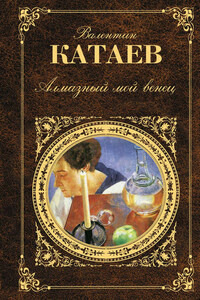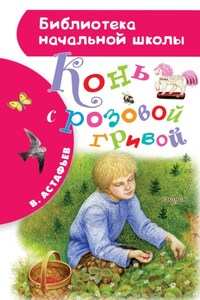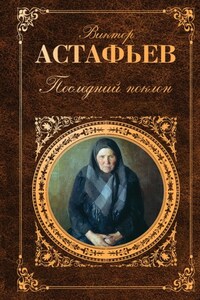В те уже давние годы писательский Дом творчества в Дубултах, под Ригою, располагался в стареньких уютных домиках. Стремление к общему бараку, поставленному на попа, с одинаковыми комнатами, окнами, дверьми, столами и стульями, с общежитским его комфортом, еще не захватило творческие умы, и мы с женою заселяли узкую комнату на две койки, в домике, по крыше которого шуршал ветрами сосняк, в раму царапались старенькие, скорбные кусты акаций, как бы радующихся нашему приезду и по этому случаю обещающих зазеленеть и зацвесть свечным, неярким цветом.
Вдруг старый дом закачался, задрожал, от топота посыпалась штукатурка, что-то со звоном упало в коридоре, и в комнату нашу без стука ворвался лохматый человек с горящим взором, сгреб в беремя мою жену и начал ее целовать, потом сгреб меня и тоже начал целовать, крича при этом на весь Дом творчества:
– Чьто ты сидишь, а? Чьто ты сидишь? Вимба идет, а ты сидишь!
Это был Гарий, мой давний приятель, с которым мы познакомились на какой-то выездной творческой компании, которой надлежало укрепить творческий дух и взбодрить полет дерзкой художественной мысли.
Я с дороги был не в духе, хотел на ком-нибудь выместить свое всем недовольство и раздражение, но со мной была лишь жена, за много лет так вызнавшая меня и приспособившаяся ко мне, что научилась ускользать от возмездия, не хотела быть громоотводом. Я же искал и не мог найти причину для того, чтобы «катануть на нее бочку». И вот Гарий! Не иначе как сам Господь Бог послал его мне в прицеп.
– Ты бы потише, Гарий, насчет женщин.
– Но вимба – это не жэншына, это – рыба! – вскричал Гарий и захохотал так, что лохмоты на его голове заколебались, что дым над трубой во время ветра. – А ты думал – латишка, да? О-ой, не могу!
– Ну, если рыба, – раздельно и четко сказал я, – тогда ничего. К рыбам русские женщины мужей еще не ревнуют.
Цель достигнута, накрыта и поражена. Супруга моя перестала улыбаться, лицо ее сделалось скорбно-мученическим, много– и долготерпеливым.
Мы выпили с Гарием бутылек. Жена, сделав нам одолжение, чуть пригубила из рюмки и отвернулась к окну, глядела на грустно сникшие за ним прутики акаций и на пылящие под ветром дюны, за которыми стеной стояло серое море, расчерченное неторопливыми скобками волн.
Ближе к вечеру мы уже ехали на реку Даугаву, где вимба не просто идет, по заверению Гария, прет сплошным косяком по воде, выбирая в плывущей из белорусских болот и озер зелени червей, козявок, мотыля и всякую тварь, годную в пищу. Машину вел друг Гария, Володя. Я сидел впереди, чтобы смотрелась хорошо Латвия… Сзади меня громоздилась крепкотелая, пучеглазая крупная женщина. Ноги ее не вмещались в узком пространстве «Москвича», поэтому были взметены вверх и колени с сохатиной костью касались моего затылка.
– Это вот есть латишка, – представил спутницу Гарий, – но не вимба, а Ренита, – и скромно, со вздохом добавил: «Чьто сделаешь? В машине место свободное, а она от одинокости страдает».
У Гария была жена, небольшая, аккуратная, красивая, которую приобрел он, когда «пыл большой и строгой командирофка на севере», но он никогда и никуда не ездил и не ходил без спутниц. Да все выбирал, или они его выбирали – крупных, грудастых, нравом покладистых, на слово скупых.
Прибыв на реку, Гарий разбил палатку подальше от стана, в гуще цветущих черемух – «Штобы не смушшать вас и природа не тревожить лишним шумом», – пояснил Гарий, настроив транзистор на какую-то здешнюю волну, по которой звучала торжественная музыка, зовущая вдаль, ввысь, может, даже в голубые небеса. Однако из палатки раздался такой могучий храп, что приемник сделалось неслышно, с черемух начал осыпаться белый цвет, с подмытого берега – песок и подсохшие комки глины.
– На «скорой помощи» работает, – пояснил Гарий. – Устала. Ночь не спала. Пусть отдохнет, ей предстоит ответственный трут. – И начал снаряжать удочки.
О, эти удочки Гария! Они были похожи на него самого: лески в узлах и захлестах, крючки и катушки ржавые, удилища с соскочившими или погнутыми трубочками. Гарий долго ругался на эти удочки, даже материл по-русски ни в чем не повинные на этот раз все торговые организации. А я крыл его. И он наконец протянул мне собранную удочку.
– На! Самый лучший удочка, только не ворчи, пожалуйста. – Мои отборные, в Сибири почерпнутые ругательства Гарий посчитал ворчанием. Воспитанный мужик.
На противоположном, низком берегу реки, вздыбленном дикими валунами, меж которых рассыпались остатки грязного льда, недвижно, будто изваяния диких и давних времен, еще половецких иль, применительно к месту действия, тевтонских рыцарей, сидели рыбаки, и возникший в болотах туман, наплывая на них, делал фигуры людей еще более загадочными, потусторонне-мрачными. Гарий что-то крикнул по-латышски, ему, короткий и недовольный, последовал из тумана ответ, «Маленько ловится», – перевел Гарий. Но я не поверил ни ему, ни латышам на том берегу – уж очень густо плыла по вздутой речке зелень, химическая по виду, что кисель, тянучая. Какая тут могла быть рыба? Тем более что латыши на том берегу ничего в руках не держали, удочками не махали, сидели, ждали, туман все плотней обволакивал их и накрывал с головой, будто дыхание с того света дошло до и без того сырой Прибалтики, теплое, навеки все в беспробудный сон и беззвучие погружающее.
Но вот в тумане на другом берегу что-то зашевелилось, раскуделило себя и потащило из воды нить, обвешанную зеленью так, что уж казалось, будто рота солдат после похода вывесила на полевой провод дырявые и пестрые портянки. Ранний и теплый туман над водой не держался, отшатывался от холодных камней, ник к нашему прогретому берегу, утекал по ложбинам ко вспаханным полям, касаясь воды, пробно, зябко комкался и, словно тополиный пух на тротуарах, катился по скользкому скату куда-то вниз, прячась за островки и мысочки, скапливаясь под ярами, продырявленными еще в прошлое лето ласточками-береговушками, в водомоинах и по кустам краснотала, спутанной ржавой проволокой возникшим из Даугавы.
В тумане, в грязных кустах на другом берегу что-то раз и другой бело сверкнуло, разбило завесь зелени, возникли леска, крючки, и на них прыгала, билась рыба, пытаясь сорваться с прогнутой тетивы.
– Вимба! – выдохнули разом два берега.
Гарий заторопился распутывать удочки, нервно ругаясь вперемежку на родном и на русском языке, как бы подтверждая бытующее мнение, что крепче русского матюка нигде ничего нету и по этой части мы давно и прочно держим первенство.
– С добычей! – раздались возгласы на том берегу и намек на продолжение: – Чтоб всегда клевало!
Спустя малое время на другом берегу задребезжал голос, будто плохо прибитое стекло в коммунальной квартире или крышка на закипевшем чайнике, в нем явственный звучал восторг: «Си-ытел рыпак вессе-лляй на пере-ку р-ре-эка-а-а…»