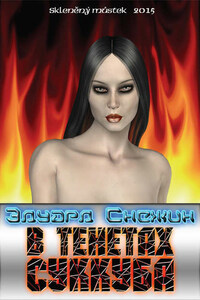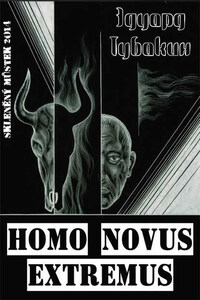Если мысленно взлететь над заснеженной равниной, отрешившись от суетных картин текущего дня, велика вероятность того, что глаза, приученные видеть жизнь только такой, какой она предстаёт перед ними там, то есть далеко внизу, – глаза эти обретут вдруг небывалую и необъяснимую зоркость и станут способны рассмотреть реальность, которая, возможно, и являлась им когда-то раньше, но бывало это либо во сне, имеющем свойство забываться в момент пробуждения, либо в болезненной полудрёме, которая размывается и тает по мере выздоровления, а может быть, просто переориентации сознания, и возвращения к привычной, однако не обязательно подлинной, ситцевой пестроте буден. Да, к их ситцевой пестроте…
Вот и я, сегодняшний, уже не впервые поднимаюсь в эту высь, вдыхаю полной грудью этот особый студёный воздух, не имеющий запаха какого бы то ни было из времён, и роняю взгляд на белый простор, лежащий подо мной, такой одинаково седой повсюду и лишь с западного края чуть подкрашенный в розоватый цвет скупыми лучами раннего заката, и знаю, что там стоит февраль сорок второго года, а тоненький пунктир, бегущий за серой струйкой дыма, возникающей бог весть откуда, – это санитарный эшелон, везущий раненых в один из тыловых госпиталей, зарывшийся в сугробы на окраине Вологды.
Мне тяжело удерживать равновесие на такой большой высоте, особенно при столкновении потоков разрежённого до крайности воздуха, мысли с трудом удаётся сосредоточиться на вещах, столь неудободоступных для неё… Но всё равно я знаю, что в третьем вагоне от головы поезда находится моя мать, совсем ещё молодая «сестричка», только что отдежурившая сутки и тут же уснувшая тяжёлым, но тревожным сном, едва лишь сброшены с девичьих ног огромные, мужского размера, валенки, а голова коснулась застиранной казённой наволочки с расплывшимся чёрным штампом.
– Лидóк, просыпайся, а то всё на свете проспишь: и завтрак, и принца, и победу! – звучит, как из-за плотной стенки, бодрый, но не очень ласковый голос.
Это Степанида, в обиходе – просто Стёпа, старшая медсестра военно-санитарного поезда №312, дородная баба чуть за тридцать в долгополом белом халате и такой же белой косынке, прихватившей жирноватые тёмные волосы, заплетённые в две тугие косички, уложенные и закреплённые на массивной круглолицей голове каким-то замысловатым образом; в скрипучие кирзовые сапоги крепко вставлены две объёмные ноги (настолько объёмные, что пришлось под них слегка распороть верха голенищ!), завёрнутые в свежие портянки, ещё пахнущие звездастым, солдатским, мылом.
– Иди умывайся, – продолжает Стёпа, заметив, что Лида открыла глаза. – Отоспишься на месте, а пока выпьем чайку да бегом в оперблок на ампутацию: у череповецкого паренька гангрена до бедра поднялась – ногу уже не спасти, отнимать надо… Начмед только что заглядывал, торопил, так что пошевеливай тазом-то! – … И гремит жестяными кружками, кидая в них по щепотке чернущего морковного порошка, с успехом заменяющего довоенный чай.
На льняном полотенце, постеленном на столешницу вместо скатёрки, уже лежат полбуханки ржаного вчерашнего хлеба, несколько варёных картофелин «в мундире» и – надо же! – лоснящийся кусочек сала, при виде которого пересохший во сне рот сразу заполняется слюной.
«Да, со Стёпой и на голодном острове с голоду не пропадёшь», – мелькает в голове Лиды, потопавшей негнущимися валенками в конец вагона, где у двери в тамбур висит старенький «ляминевый» умывальник.
Три часа в операционной пролетели быстро, и если бы не одеревеневшие икры и боль в пояснице, то можно было бы подумать, что день – это сменяющие друг друга картины за заиндевевшим окном: то заунывные, когда по обеим сторонам – только белое поле до горизонта; то весёленькие, когда изредка поезд остановится на четверть часа на какой-нибудь узловой станции и можно выскочить из пропахшего бинтами и хлоркой вагона на морозный воздух; то волшебные, когда случайный луч протиснувшегося в щель между облаками солнца как-то удачно упадёт на ветки елей, выстроившихся очень кстати в сотне метров от полотна, и сгустит поредевшие краски так, что возрадуется глаз и мелькнёт в голове мысль о том, что всё-таки жизнь идёт, что ты в ней есть, а значит, что-то, может быть, ещё будет…
Вот с этим настроением Лида брякала заляпанным инструментом, полоская его в белом эмалированном тазике и складывая в видавший виды автоклав, время от времени переговариваясь с санитаркой Полиной, сортировавшей пришедшие с перевязки окровавленные бинты. Когда та закончила эту неприглядную работу и поставила кипятить огромный бак, доверху набитый «вторичкой», они вместе покатили непослушную тележку с гремящими суднами в соседний вагон, где находились тяжёленькие.
В отличие от вагона с ходячими ранеными, здесь почти не было слышно разговоров, на лицах (если они не были скрыты марлей) лежала печать молчаливого страдания, а в воздухе царила атмосфера безразличия и затуманенного сознания людей, чья жизнь висит на волоске, а обозримое будущее, как правило, не простирается дальше двух-трёх часов. Мука делала их в Лидиных глазах похожими друг на друга: и седоватого комбата-майора, принявшего в себя пулемётную очередь, но вцепившегося в жизнь всей своей зубастой волей; и сержанта-танкиста, умудрившегося выбраться из горящей машины с перебитыми ногами и обуглившейся чуть не до костей спиной; и хлипкого солдатика интендантской службы с простреленным лёгким, так не вовремя оказавшегося в полуторке, попавшей под огонь немецкого штурмовика.
…Вот и сейчас Лида машинально двигалась по тесным проходам между койками, стараясь не задеть то торчащую из-под одеяла забинтованную культю, то свесившуюся до пола руку, и привычно выставляла жёлтые «утки» под просевшие от старости и постоянной нагрузки панцирные сетки.
У одной из кроватей пришлось остановиться и поправлять скинутое в бреду одеяло. Раненый тяжело, со свистом, дышал, беззвучно шевелил потрескавшимися от жара губами и лишь временами шёпотом то звал «старшину», то просил пить.
Лида ещё вчера обратила внимание на это почти детское личико с ярко выраженными еврейскими чертами, так отличавшееся от примелькавшихся рязанских, вятских, вологодских типов своей утончённостью, симметрией и некой экзотикой, напоминавшей ей репродукции с картин Иванова, виденные в книжке по истории русского искусства, которая попалась однажды в школьной библиотеке. Ранение в грудь было тяжёлым, поэтому солдатика положили поближе к выходу, чтобы можно было по прибытии в конечный пункт быстро вынести и сразу либо отправить в стационарную операционную, либо просто погрузить в труповозку… Лида ещё раз взглянула на это красивое лицо и двинулась дальше между рядами.