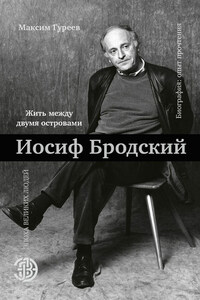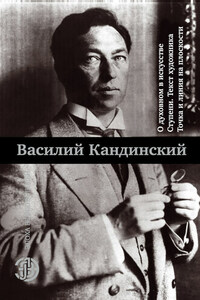Два момента привлекают особое внимание в судьбе любого знаменитого человека: момент, когда осознается его особость, если не гениальность, на фоне современников и, естественно, момент его ухода.
Особую важность обе эти знаковые точки обретают тогда, когда момент ухода человека из жизни определяется им самим. Это, естественно, создает и особый ретроспективный взгляд на момент прихода художника в мир.
Судьба Владимира Маяковского дает нам именно такой пример.
Разумеется, поэта продолжают читать, современные поэты вполне открыто пользуются его находками, образами и достижениями, даже рекламы фирм по установке пластмассовых окон сознательно стилизуются под знаменитые маяковские «Окна РОСТА».
Станция московского метро «Маяковская», стоящая на Триумфальной площади, побывшей несколько десятилетий площадью Маяковского, и вновь ставшая Триумфальной, в это самое время обрела новый выход. Он являет собой сегодняшнюю вариацию образа Маяковского в монументальной форме, находящуюся прямо под Триумфальной площадью, на которой стоит памятник Маяковскому.
А вот знаменитый Музей Маяковского на много лет оказался закрыт, его экспозиция в том самом доме с «комнатенкой лодочкой», где погиб поэт, разрушена безо всякой цели и лишь сейчас, кажется, восстанавливается. О доме Бриков – Маяковского, где был знаменитый старый музей поэта, даже речи нет. Только мемуары. А вот маленькая квартирка на Красной Пресне, где жила его семья, мать с сестрами, стала выставочным залом Музея Маяковского вместе, кстати, с домиком А.П. Чехова на Садово-Каретной улице. Там теперь проходят выставки того же Музея Маяковского. А сам поэт в свое время написал лишь статью «Два Чехова» да издевался над «дядями Ванями и тетями Манями». Но такой уж сегодня московский городской контекст Маяковского, существенно отличный от еще недавно так привычного.
Маяковский сегодня и не «Начинается», как у Николая Асеева в поэме, написанной через 10 лет после смерти автора «Во весь голос», и не «Воскрешается», как в книге ниспровергателя Маяковского и его трагического последователя в роковом шаге Юрия Карабчиевского, и даже не «Продолжается», как называются сборники Музея Маяковского, на время заместившие сам музей.
Маяковский существует в литературе и истории как-то независимо от всего этого, почти как станция подземки «Маяковская» под Триумфальной площадью.
И так же независимо от поэта живет его миф, главное место в котором занимает бесконечный спор о том, что привело к «Роковому выстрелу», была ли это рука самого Маяковского, направлял ли кто-то эту руку, боялся ли чего-то Маяковский в 1930 году из совершенного им до этого и т. д.
Все эти точки зрения будут представлены на страницах нашей книги.
Но мы попробуем здесь сделать один шаг, который, как кажется, не делал еще никто.
Мы предлагаем в этой книге прочесть и известные отзывы о смерти Маяковского, например, Марины Цветаевой или Бориса Пастернака, прочесть на фоне того, что можно узнать «о жизни и смерти» Маяковского из их же обращений к поэту.
Так, Борис Пастернак написал не только главу о Маяковском в «Охранной грамоте», но и две редакции «Баллады» «Бывает, курьером на борзом…».
Их анализу посвящена целая глава, которая находится в этой книге. Здесь лишь кратко заметим, что в «Балладе» 1916 г. молодой Пастернак еще только предчувствует трагический конец поэта, впрочем, напророченный в «Трагедии» Владимир Маяковский»; в «Балладе» 1928 г. ее автор уже едва ли не заговаривает Маяковского от приближающейся Трагедии без кавычек, а в знаменитой «Охранной грамоте», уже зная все до «точки пули в конце», и подводит итоги, и ищет те самые глубинные основания неизбежного, которые, как показывают стихи, а не посмертная глава о Маяковском из «Охранной грамоты», были видны автору «Сестры моей – жизни» с самого начала.
«Охранная грамота» ценна для нас и еще одним: в ней мы находим имена всех главных героев нашей книги, окружавших Маяковского в его последние дни, однако героев, которые пытались на протяжении всей жизни понять Маяковского от начала и до конца.
Это и Николай Асеев, и Марина Цветаева, и Илья Сельвинский, и, естественно, сам Пастернак.
Поэтому самым верным введением к нашей книге представляется комментированное прочтение именно «Охранной грамоты» с попыткой взгляда сквозь этот текст на названных в ней поэтов – современников Маяковского.
Пастернак вспоминал о первой встрече: «…я не отрываясь наблюдал Маяковского. Кажется, так близко я тогда его видел впервые. Его «э» оборотное вместо «а», куском листового железа колыхавшее его дикцию, было чертой актерской. Его намеренную резкость легко было вообразить отличительным признаком других профессий и положений. В своей разительности он был не одинок. Рядом сидели его товарищи. Из них один, как он, разыгрывал денди, другой, подобно ему, был подлинным поэтом. Но все эти сходства не умаляли исключительности Маяковского, а ее подчеркивали. В отличье от игры в отдельное он разом играл во все, в противность разыгрыванью ролей, – играл жизнью. Последнее, без какой бы то ни было мысли о его будущем конце, улавливалось с первого взгляда. Это-то и приковывало к нему, и пугало»[1].
Разумеется, Пастернак, автор «Сестры моей – жизни», прекрасно знал в 1930–1931 гг., что говорил. «Будущий конец» Маяковского был уже историей. Пастернак, когда-то давно, уже решил для себя, в полном соответствии с названием своей книги, не играть в жизнь и, разумеется, смерть. И лишь в «Гамлете» из «Доктора Живаго» он примерил на себя смертельный поступок своего предшественника. Хотя это и не была пуля, пущенная в себя собственной рукой.
Пастернак продолжал: «За его манерою держаться чудилось нечто подобное решенью, когда оно приведено в исполненье и следствия его уже не подлежат отмене. Таким решеньем была его гениальность, встреча с которой когда-то так его потрясла, что стала ему на все времена тематическим предписаньем, воплощенью которого он отдал всего себя без жалости и колебанья»[2].
Вписав однажды в прозу о Маяковском «Сестру мою – жизнь», Пастернак развивает мысль упоминанием своих же «Тем и вариаций», окруженных вариацией «Священного писанья» из «Сестры моей – жизни», из ее железнодорожного «расписанья» – «предписаньем».
Это очень важное место. Ведь пишется все это сразу по смерти Маяковского, когда никому еще не приходит в голову искать внешних убийц за какой-то портьерой, проникших в комнату, где был Маяковский, и т. д.