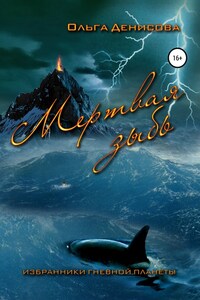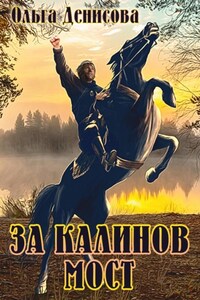Грохот поезда на долгую минуту заглушил все прочие звуки, даже отчаянный крик:
– Мама!
Из угла не мигая смотрели два глаза – в них отражался тусклый красный свет ночника. И чем громче гремели колеса, тем громче приходилось кричать:
– Мама! Волк! Десь волк!
Слезы лились из глаз, потому что мама не слышала крика. Пасть зверя ощерилась, обнажая блестящие красным клыки, мохнатое тело подалось назад, пружиной сжимаясь перед прыжком. Запах реки, холодный и сырой, потянулся из-за двери, грохот поезда не затихал, и когда дверь распахнулась, в комнату вместе с истошным маминым криком хлынула ледяная вода…
Ковалев распахнул глаза и сел на кровати – непривычно скрипнула металлическая сетка. Грохот поезда ему не приснился: старенький дом трясся от стука колес, в окне между вагонами мелькала одинокая лампа накаливания в фонаре на другой стороне насыпи. Никакого ночника не было, никакого зверя в углу – тоже.
В детстве Ковалеву часто снился этот кошмар, он изучил и запомнил его подробности: и комнату с массивным круглым столом посередине и ковром на стене, и ночник с плоским красным стеклом, и самого зверя – огромного, лохматого, с клочковатой мокрой шерстью. Как ни странно, не только бабушка, но и дед относились к этому серьезно: прибегали в детскую, проснувшись среди ночи от крика, поили ревущего Ковалева валерьянкой и забирали к себе в спальню. Став постарше, он стеснялся этого кошмара – глупый детский сон, мальчикам не пристало бояться волков и тем более реветь от страха. Правда, волк во сне был слишком настоящим, непохожим на тех безобидных волков, которых показывали в мультфильмах. Да и дед, всегда смеявшийся над слезами внука, в таких случаях бывал встревожен и необычно ласков. Потом это прошло само собой, забылось.
Ковалев не сразу узнал эту комнату, а если бы не проехавший мимо поезд и не приснившийся вновь детский кошмар, то и вовсе не подумал бы о том, что когда-то уже бывал здесь. Такие круглые столы, ковры с оленями, панцирные кровати с хромированными спинками, ходики с шишками были атрибутами едва ли не каждого сельского дома лет двадцать пять – тридцать назад. Точно такой же торшер, какой стоял здесь возле кровати, до сих пор верой и правдой служил Ковалеву дома – раньше у дивана бабушки и дедушки, а теперь в их с Владой спальне.
Он безошибочно нащупал выключатель – вместо яркой светодиодной лампы вспыхнула тусклая сороковатка. Ходики показывали половину седьмого утра – пора подниматься.
Вчера Ковалев поздно добрался до дома бабушкиной сестры тети Нади – в десятом часу вечера, в полной темноте, – в Заречном в это время ложились спать, он шел пустыми улицами, и если бы не распечатанная из Яндекса карта, ни за что не нашел бы нужного места. Но несмотря на поздний час, все равно заметил взгляды соседей: в ответ на лай собак в окнах домов, мимо которых он проходил, откидывались занавески – слух о приезде наследника разнесся по поселку быстрее ветра. Дом тети Нади был последним на улице, упиравшейся в железнодорожную насыпь, на нее Ковалев и ориентировался.
Когда он поднялся на крыльцо, в доме напротив тоже откинулась занавеска, а у соседей слева заскрипела и хлопнула входная дверь. Это было неприятно – ковыряться с висячим замком на глазах у незнакомых людей. Будто он вор… Но ключ подошел, что окончательно убедило Ковалева, что он не ошибся и не влез на чужой участок.
До трех часов ночи он топил обе печки. Делать это Ковалев умел плохо, в пустом доме было так же холодно, как на улице, потому он и провозился так долго. Он привык рано ложиться и рано вставать, полночи клевал носом, зато теперь чувствовал себя вполне бодрым.
Иметь дачу в двухстах километрах от города удовольствие сомнительное, но вряд ли Ковалев со своей зарплатой военнослужащего смог бы приобрести что-то получше. Он не ожидал, что тетя Надя завещает дом ему, никогда не задумывался, что у нее не было родственника ближе. Тетя Надя гостила у них часто, и бабушка тоже ездила к ней иногда, но не брала Ковалева с собой, хотя всегда излишне пеклась о здоровье внука. Впрочем, каждое лето Ковалев проводил в спортивных лагерях, а все каникулы – на сборах, даже речи не шло о том, чтобы он поехал куда-нибудь отдыхать.
Дом был небольшим, в две комнаты и кухню, но уютным. И к запаху сырости примешивался знакомый аромат сушеной лаванды – бабушка зашивала ее в матерчатые мешочки и раскладывала по шкафам от моли. Наверное, то же самое делала и тетя Надя.
Одеваться в гражданское было непривычно – Ковалев носил форму. В джинсах и свитере военная выправка ему самому казалась смешной, неуместной… Влада собрала ему с собой только теплые рубашки, сказав, что за городом в ноябре сорочки не понадобятся, да и стирать их негде.
Ковалев натянул джинсы и включил верхний свет. Тогда взгляд его и упал на старый облезлый шкаф – там стоял красный фонарь для печати фотографий, тяжелый, в черном железном корпусе. Ночник с плоским красным стеклом… И если столы, торшеры, ковры с оленями были у всех, то вряд ли многие сельские жители использовали в качестве ночника красный фонарь… Ковалев, убежденный материалист, в передачу мыслей на расстоянии, в предчувствия и генетическую память не верил. Значит, он все же бывал здесь.
Темное осеннее утро казалось глухой полночью. Ковалев с вечера разыскал в кладовке засаленный ватник и подобрал резиновые сапоги с обрезанными голенищами, чтобы выходить во двор. Он зевнул, поежился и шагнул на холодную веранду – словно нырнул в прорубь.
В незнакомом доме собираться было непривычно, непривычно умываться холодной водой из умывальника, бриться перед махоньким потемневшим зеркалом над раковиной. Ковалев садился за стол сразу после ванной – Влада никогда не задерживалась с завтраком, знала, как он не любит опаздывать. Здесь он не стал возиться даже с чаем, думая позавтракать в санатории, – не зря же он заплатил за питание невообразимые деньги…
Во дворах лаяли собаки. Холодный ветер насквозь прохватил куртку, Ковалев прибавил шагу, выходя со двора, и тут же по щиколотку провалился в грязную лужу с ледяной водой. Высокий ботинок не выдержал испытания, сквозь шнуровку просочилась вода, и Ковалев выругался вполголоса – до вечера придется ходить с мокрыми ногами.
До санатория было около километра, он стоял за рекой. В темноте Ковалев прошел мимо тропинки, которая вела вверх по насыпи к железнодорожному мосту, и понял это, только оказавшись у самого берега. Черная глубокая вода блестела в темноте поднятой ветром рябью, и мурашки бежали по спине, стоило представить, какая она холодная.
Дежавю… Он уже тонул когда-то в такой вот черной реке… И берега ее продувал ветер. И мост стоял чуть ниже по течению.