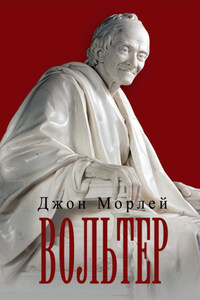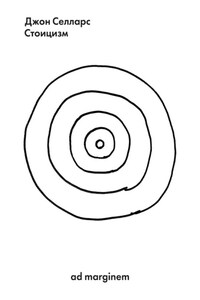τὰ μὲν γὰρ σωφρόνων ἤϑη σφόδρα μὲν εὐλαβῆ
ϰαὶ διϰαία ϰαὶ σωτήρια δριμύτητοτ δἐ ϰαί τινος
ὶταμὸτητος ὀξείας ϰαί πραϰτιϰῆς ἐνδεῖται… τά
δ᾽ἀνδρεῖ άγε αὑ πρὸς μεν τὸ δίϰαιον ϰαὶ εὐλαβὲς
ἐϰείνων ἐπιδεέστερα, τὸ δ᾽ἐν ταῖ ς πρὰξεσί
διϰφεροντως ἵσϰει. νάντα δὲ ϰαλῷς γίγνεσϑαι τὰ
περὶ τὰς πόλεις, τούτοιν μὴ παραγεν ομένοιν ἀμφοῖν,
ἀδύνατον.
Politicus, 311 A
πότερον τοὺς ἀνδρεῖονς Θαῤῥαλέονς λέγεις, ἤ
ἄλλοτι; ϰαὶ ἵτας γε, ἕφη, ἐφ᾿ἄ οί πολλοι φοβοῦνπας
ἰέναι.
Protagoras, 349 E
Благоразумные заправители отличаются в высшей
степени осмотрительностью, справедливостью
и мудрым консерватизмом, но у них не хватает
энергии и необходимой для дела решительности…
С точки зрения справедливости и благоразумия
мужество имеет меньшую цену, но оно важнее для
результатов. Невозможно, чтобы в государстве
очень хорошо шли дела, если благоразумие
не соединяется с энергией.
Платон. Политик, 311 А
Называешь ли ты мужественными смелых или
кого другого? Да, сказал он, и отважных, которые
идут на то, чего многие боятся.
Платон. Протагор, 349 Е
***
Когда истинное понимание исторической законосообразности будет полнее развито в умах людей, именем Вольтера будет названа эпоха его времени, и это название будет иметь такое же значение, какое имеют Возрождение наук или Реформация, которыми определяются великие и многознаменательные умственные движения в Европе. Жизнь, характер и деятельность этой необыкновенной личности сами по себе создали новую и величайшую эру. Личные особенности гения Вольтера изменили умственное и духовное направление Франции и в некоторой степени всего Запада в такой мере и столь коренным образом, словно вся эта работа была произведена усилиями глубоко скрытых коллективных сил, тогда как в действительности эти силы только способствовали развитию Вольтера. Новый тип веры и ее непременного спутника неверия, под влиянием его характера и деятельности, оставил глубокое впечатление в умах и чувствах людей не только современной ему эпохи, но и последующей. Мы думаем, что вольтерьянство во Франции имеет в некоторой степени такое же значение, как католицизм, эпоха Возрождения и кальвинизм. Оно является одной из основ, на которых зиждется умственное освобождение нового поколения.
В начальную эпоху своего существования христианство пробуждало у всякого возвышенные стремления к более духовному, чистому и менее порочному и скоро преходящему существованию, чем какого могут достигнуть сыны человеческие в этом суетном и испорченном мире, и вместе с тем давало удовлетворение этим стремлениям. Оно открывало людям милосердное, всеблагое и всемогущее существо, которое – когда настанет день – загладит все несправедливости и вознаградит за все страдания и которое между тем не требовало от них ничего, кроме любви к тому, кого они не видят, выражаемой в любви к ближним. Великое значение христианства и заключалось в том, что оно подняло нравственное достоинство и уважение к себе в массе до того уровня, до которого только немногие до тех пор возвышались. Спустя много столетий Кальвин, суровый и непреклонный пасынок христианского Бога, ревнуя о божественном достоинстве и во зло употребляемом милосердии своего отца, с беспощадной силой слова освободил умы всех тех, кто, страшась глядеть прямо в лицо ужасным фактам необходимости зла и наказания, заботились более о том, чтобы примирять эти факты с какой-либо теорией любви и бесконечного милосердия Великого Творца. Люди, лишенные энергии и беспомощно запутавшиеся, благодаря верованиям (католицизму), всецело погрязшие в постыдном оптимизме и снисхождении к самим себе, сознали новый стимул в своей нравственной природе, лишь только жизнь представилась для них в виде долгой борьбы скрытых и непреодолимых сил и милосердия, предвечного избрания и предопределения, когда они поняли, что не человеку, жалкому червю и порождению червя, с его поверхностным умом и слабой логикой, примирить неисповедимые пути и дела высшего существа. Католицизм был движением мистического характера; таким же, только еще в большей степени, явился и кальвинизм, заменивший его в столь многих и значительных обществах. И тот и другой много сделали для поднятия человеческого достоинства и облагорожения чувства самоуважения; но вместе с тем и тот и другой угнетали и подавляли свободное проявление ума, жизнерадостную деятельность разума, светлое и многостороннее творчество воображения и фантазии. К счастью, однако, человеческая природа всегда противодействует репрессивной системе, и какова бы она ни была, пролагает себе путь к свободе и свету; научное понимание настойчиво добивается средств и возможности для своего выражения; творческое воображение бессознательно выливается в самых разнообразных формах, которые оно находит повсюду при добром содействии тонкого чувства. Вот в чем источник того яркого света, который озарил Европу в последней половине пятнадцатого столетия. Прежде чем Лютер и Кальвин, каждый по-своему, резко оттеняя, открыли миру свои новые идеи о нравственном порядке, люди более чем двух поколений почти перестали заботиться о том, существует ли какой-нибудь нравственный порядок, или же его вовсе нет и с восторгом предались наслаждению и созерцанию идей грации и красоты, образы которых давно уже знакомы миру, но все еще полны неувядаемой, по-видимому, новизны и свежести для всякого, кто раз получил доступ к бессмертным дарам искусства, архитектуры и литературы Греции. Если реформация, это великое обновление жизни северной Европы, явилась освобождением личности от оков, наложенных на нее потерявшими уже свое значение общественными суеверными традициями, то эпоха Возрождения – это более раннее пробуждение южной Европы к жизни – дала возможность воспринять благороднейшие общественные традиции свободного разума, какие только предки могли передать потомкам.
Вольтерьянством можно назвать возрождение восемнадцатого века, так как под этим словом понимают как все серьезные недостатки и неудачи этого страшного движения, так и его ужасный взрыв, быстроту, искренность и силу. Жгучие и ослепительные лучи ума Вольтера разбудили гения времен, онемелого и окутанного мраком, подобно угрюмой статуе Мемнона, лишь в тот момент, когда резкий звук лопнувшей струны пронесся над Европой и люди проснулись при новой заре и вздохнули полной грудью. Сентименталисты провозгласили Вольтера насмешником; в глазах присяжных школьных критиков, имеющих всегда наготове под рукой краткие ярлычки, он революционер-разрушитель; для каждой из бесчисленных ортодоксальных сект имя его – символ преддверия ада; ученые представляют его поверхностным и пустым; современная образованность осуждает его за то, что он в своей ненависти ко всякой лжи в сфере духовной является уж слишком серьезным. Люди простые, склонные измерять заслуги философа степенью его сочувствия к данным условиям комфорта больного существования, вообще должны одобрить слова Джонсона, сказавшего, что он скорее подписал бы приговор об изгнании Руссо, чем приговор об изгнании какого-нибудь преступника, давно бежавшего из Ольд-Бальи, а разница между Руссо и Вольтером так незначительна, что «трудно было бы определить меру неравенства между ними». Таким образом, люди всяких школ и профессий, смешивающие сильное выражение со строгим осуждением, дерзкую фразу с основательным убеждением, до такой степени были охвачены антипатией к Вольтеру, что невольным образом должны были вызвать у некоторых из них, склонных по природе к юмору, как реакцию противоположное чувство, нечто вроде симпатии. Грубый словарь злобы и ненависти – это отвратительное наследие истории, борьбы мнений – заимствовал многие из своих наиболее громких выражений из критических мнений о Вольтере, а некоторые и от самого Вольтера, к сожалению, не всегда пренебрегавшего следовать худому примеру своего противника.