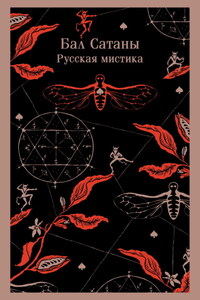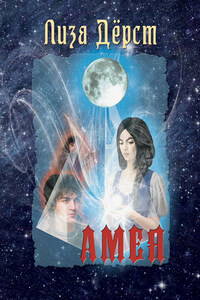I. Князь Андрей Николаевич
Несмотря на то, что старый князь Андрей Николаевич Проскуров, Рюрикович по происхождению, был богат, знатен, и если не более, то во всяком случае не менее своих сверстников обладал способностями к службе, – он, достигнув солидного возраста, не сделал карьеры. Ему просто не было счастья. Только что начинала улыбаться ему судьба, как являлось непредвиденное обстоятельство, разрушавшее все планы и надолго уносившее надежду на достижение желанной цели.
И это было тем обиднее, что сначала Проскурову повезло. Двадцати семи лет князь Андрей Николаевич, покровительствуемый Меншиковым, только что достигшим апогея своего величия с воцарением государыни Екатерины I, получил чин бригадира. Все улыбалось ему, он почти был уверен, что счастье, в лице всесильного Меншикова, навеки не изменит ему, лишь бы суметь угодить временщику, и приложил к тому все старания.
Но императрица Екатерина вскоре скончалась, а затем и Меншиков пал и был отправлен в ссылку. Проскуров не был замешан в его дело, но как лицо, которому все-таки покровительствовал опальный, должен был уехать к себе в деревню. Ему намекнули об этом; и он, из боязни навлечь на себя еще более тяжкие беды, не заставил повторять себе намек.
Наконец после долгих усилий, просьб и искательств Проскурову удалось вернуться в Петербург, но уже сорокалетним бригадиром. Этот чин, завидный в двадцать семь лет, теперь казался как будто не совсем почетным, когда сверстники князя давно были уже генералами, а иные даже заседали в кабинете.
После тринадцати лет деревенской жизни Проскуров попал в Петербург в самый разгар борьбы Волынского с Бироном. Устроившись в столице, он старался осмотреться и решить, откуда ждать ему столь желаемых благ. Бирон был временщиком. Проскуров, видевший силу Меншикова, который, несмотря на эту силу, все-таки не мог устоять против происков врагов, теперь, видя всеобщую, хотя скрытую, нелюбовь к Бирону, решил, что и этому временщику не миновать гибели, и примкнул к Волынскому. Князь рассчитал верно. Однако не совсем: Бирону суждено было пасть, но только не Волынскому предстояло победить его; Волынский сам пал, казненный на площади. Проскуров не ждал на этот раз даже намека и сам поспешил уехать поскорее в деревню.
Скончалась императрица Анна Иоанновна, а через три месяца после этого правительницей Анной Леопольдовной был сослан Бирон. Проскуров снова ожил, снова, полный надежд, вернулся в Петербург, нашел дорогу к сильным людям, но едва приготовился встретить радостью как будто к нему на этот раз обращенную улыбку счастья, как новый удар, новое разочарование: ноябрьскою темною ночью цесаревна Елизавета Петровна явилась в казармы Преображенского полка, с тремястами солдат арестовала правительницу и была провозглашена самодержавной императрицей. Сильные люди, на которых надеялся и в которых верил Проскуров, а именно Миних, Остерман, Головин, были сосланы в далекие города, а сам Проскуров отправлен «вечным» бригадиром вновь в свое имение. «И все за то только, что в жилу не умел попасть», – как говорил он.
С тех пор, то есть с воцарения Елизаветы Петровны, князь Андрей Николаевич жил уже безвыездно в деревне.
Однако, поселившись там, он все еще в глубине души надеялся, что настанет наконец и его время, и ждал этого времени, не замечая, что годы проходят, а сам он стареет. Это начало старости становилось в нем в особенности заметным по увеличивающейся с каждым годом ворчливости и раздражительности.
Свою барскую усадьбу Проскуров устроил в виде замка, окружив ее частоколом, валами и бойницами: он открыто принимал у себя только таких людей, которые бранили современные порядки, и не пускал к себе лиц начальствующих; и благодаря его богатству это сходило ему, а главное – и ездили-то к нему, в сущности, люди самые смирные, только прикидывавшиеся пред ним недовольными, чтобы иметь к нему доступ, потому что всегда находили у него хороший завтрак и отборные вина. Князь Андрей Николаевич только и бывал в духе, когда, сидя за столом и кивая дворецкому, чтобы тот подливал вина, слушал разговоры о том, какие тяжелые времена, мол, переживаются теперь. Тогда он хмурил свои нависшие на глаза брови и одобрительно потряхивал чубуком.
Несмотря на безвыездную жизнь в деревне Проскуров все-таки внимательно следил за всем, что делалось в столице, в особенности за наградами и повышениями, и, встретив в «Петербургских ведомостях», в списке награжденных, знакомую фамилию, выходил обыкновенно из себя, комкал газету, кидал ее и становился несносен для окружающих. Правда, иногда он сам старался совладать с собой и тогда запирался в своем кабинете.
Но ничто не бесило Андрея Николаевича так, как возвышение Разумовского. Это он уже никому простить не мог и даже в провинции не терпел ненавистного имени. Одного из гостей он чуть не затравил собаками за то, что тот заговорил при нем о Разумовском, хотя и неодобрительно. Андрей Николаевич не хотел примириться с мыслью, что простой певчий стал вдруг вельможей, когда он, князь Проскуров, придворный Рюрикович, сидит где-то у себя в деревне с чином бригадира. Он всей душою ненавидел этот свой чин и тоже комкал и бросал письма, не читая их, если на адресе к титулу было прибавлено «и бригадиру». Впрочем, он говорил всем, что на чины не смотрит и что незачем ему иметь их, когда у него есть неотъемлемый княжеский титул, прирожденный, который пожаловать нельзя. И этому прирожденному титулу он придавал такое значение, что у него в усадьбе, в штабе служащих, жил ученый итальянец, специально приглашенный для составления родословной князей Проскуровых.