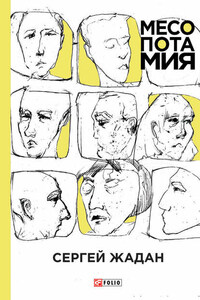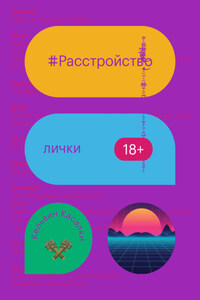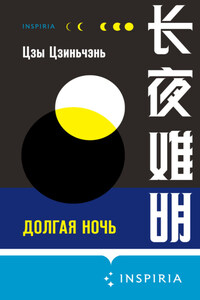Телефоны существуют, чтобы сообщать о всяких неприятностях. Телефонные голоса звучат холодно и официально, официальным голосом проще передавать плохие новости. Я знаю, о чем говорю. Всю свою жизнь я боролся с телефонными аппаратами, хотя и без особого успеха. Телефонисты всего мира продолжают отслеживать разговоры, выписывая на свои карточки наиболее важные слова и высказывания, а в гостиничных номерах на ночных столиках лежат сборники псалмов и телефонные справочники – все, необходимое для того, чтобы не утратить веру.
Я спал в одежде. В джинсах и растянутой футболке. Проснувшись, бродил по комнате, опрокидывал пустые бутылки из-под лимонада, стаканы, банки и пепельницы, заляпанные соусом тарелки, обувь, злобно давил босыми ногами яблоки, фисташки и жирные финики, похожие на тараканов. Когда снимаешь жилье и обитаешь среди чужой мебели, приучаешься относиться к вещам бережно. Я держал дома всякий хлам, как старьевщик, прятал под диваном граммофонные пластинки и хоккейные клюшки, забытую кем-то женскую одежду и добытые где-то большие железные дорожные знаки. Я не мог ничего выбросить, поскольку не знал, что из всего этого принадлежит мне, а что является чужой собственностью. Но с самого первого дня, с той самой минуты, как я сюда попал, телефонный аппарат лежал прямо на полу посреди комнаты, вызывая ненависть своим голосом и своим молчанием. Укладываясь спать, я накрывал его большой картонной коробкой. Утром выносил коробку на балкон. Дьявольский аппарат лежал посреди комнаты и назойливым дребезжанием возвещал, что я кому-то нужен.
Вот и теперь кто-то звонил. Четверг, пять утра. Я вылез из-под одеяла, отбросил картонную коробку, взял телефон, вышел на балкон. Во дворе было тихо и пусто. Из боковой двери банка вышел охранник, устроил себе утренний перекур. Когда тебе звонят в пять утра, ничего хорошего от этого не жди. Сдерживая раздражение, снял трубку. Так все и началось.
– Дружище, – я сразу узнал Кочу. Голос у него был прокуренный, будто вместо легких в него вмонтировали старые прожженные динамики. – Гера, друг, не спишь? – Динамики хрипели и выплевывали согласные. Пять утра, четверг. – Алло, Гера.
– Алло, – сказал я.
– Друг, – радостно подбавил низких частот Коча, – Гера!
– Коча, пять утра, что ты хочешь?
– Гер, послушай, – Коча перешел на доверительный свист, – я не стал бы тебя будить. Тут такая шняга. Я ночь не спал, понял? Вчера брат твой звонил.
– Ну?
– Короче, он уехал, Герман, – тревожно зависло на другом конце Кочино дыхание.
– Далеко? – сложно было привыкнуть к этим его голосовым перепадам.
– Далеко, Герман, – включился Коча. Когда он начинал новое предложение, голос его фонил. – То ли в Берлин, то ли в Амстердам, я так и не понял.
– Может, через Берлин в Амстердам? – переспросил я.
– Может, и так, Гер, может, и так, – захрипел Коча.
– А когда вернется? – я успел расслабиться. Подумал, что это просто рабочий момент, что он просто сообщает мне семейные новости.
– По ходу, Гера, никогда, – трубка снова зафонила.
– Когда?
– Никогда, Гер, никогда. Он насовсем уехал. Вчера звонил, просил тебе сказать.
– Как насовсем? – не понял я. – Коча, у вас там все нормально?
– Да, нормально, друг, – Коча сорвался на высокие ноты, – все нормально. Вот только брат твой бросил тут все на меня, ты понял?! А я, Гер, старый уже, один не потяну.
– Как бросил? – не понял я. – Что он сказал?
– Сказал, что в Амстердаме, просил позвонить тебе. Сказал, что не вернется.
– А заправка?
– А заправка, Гер, по ходу на мне. Только я, – Коча снова подбавил к своему хрипению доверительности, – не потяну. Проблемы у меня со сном. Видишь, пять утра, а я не сплю.
– А давно он уехал? – перебил я.
– Да уже неделю назад, – сообщил Коча. – Я думал, ты знаешь. А тут такая вот шняга выходит.
– А что ж он мне ничего не сказал?
– Я не знаю, Гер, не знаю, дружище. Он ничего никому не сказал, просто взял и свалил. Может, хотел, чтоб никто не знал.
– О чем не знал?
– О том, что он сваливает, – пояснил Коча.
– А кому какое дело до него?
– Ну, не знаю, Гер, – заюлил голосом Коча, – не знаю.
– Коча, что у вас там случилось?
– Гер, ты ж меня знаешь, – зашипел Коча, – я в его бизнес не совался. Он мне ничего не объяснял. Просто взял и свалил. А я, дружище, один не потяну. Ты бы приехал сюда, разобрался на месте, а?
– В чем разобрался?
– Ну, я не знаю, может, он тебе что-то говорил.
– Коча, я не видел его полгода.
– Ну, не знаю, – окончательно растерялся Коча. – Гер, дружище, ты приезжай, а то я один ну никак, ты меня пойми правильно.
– Коча, что ты темнишь? – наконец спросил я. – Скажи нормально, что там у вас случилось.
– Да все в порядке, Гер, – Коча закашлялся, – все нормалек. Короче, я тебе сказал, а ты уже сам смотри. А я пошел, у меня клиенты. Давай, дружище, давай. – Коча бросил трубку.
Клиенты у него, подумал я. В пять утра.
* * *
Мы снимали две комнаты в отселенной коммуналке, в самом центре, в тихом дворике, засаженном липами. Лелик занимал проходную комнату, ближе к коридору, я жил в дальней, с выходом на балкон. Остальные комнаты коммуналки были наглухо закрыты. Что скрывалось за дверьми – никто не знал. Комнаты нам сдавал старый матерый пенсионер, бывший инкассатор Федор Михайлович. Я его называл Достоевским. В девяностых они с женой решили уехать в эмиграцию, и Федор Михайлович выправил себе паспорт. Но, получив на руки новые документы, вдруг передумал куда-то ехать, решив, что теперь самое время начинать новую жизнь. Так что в эмиграцию жена отправилась одна, а он остался в Харькове якобы стеречь квартиру. Почуяв свободу, Федор Михайлович сдал комнаты нам, а сам скрывался где-то на конспиративных квартирах. Кухня, коридоры и даже ванная этого полуразрушенного жилища были забиты довоенной мебелью, потрепанными книгами и кипами журналов «Огонек». На столах, стульях и прямо на полу были свалены посуда и разноцветное тряпье, к которым Федор Михайлович относился нежно и выбрасывать не позволял. Мы не выбрасывали, и к чужому хламу добавился еще и наш. Шкафчики, полочки и ящики стола на кухне были заставлены темными бутылками и банками, в которых поблескивали подсолнечное масло и мед, уксус и красное вино (в нем мы гасили окурки). По столу перекатывались грецкие орехи и медные монеты, пивные пробки и пуговицы от армейских шинелей, с люстры свисали старые галстуки Федора Михайловича.
Мы с пониманием относились к нашему хозяину и его пиратским сокровищам, к фарфоровым фигуркам Ленина, массивным вилкам под серебро, пыльным шторам, через которые пробивалось, разгоняя по комнате пыль и сквозняки, желтое, как сливочное масло, солнце. По вечерам, сидя на кухне, мы читали надписи, сделанные Федором Михайловичем на стенах, какие-то номера телефонов, адреса, схемы автобусных маршрутов, нарисованные химическим карандашом прямо на обоях, рассматривали вырезки из календарей и фотографии неизвестных родственников, прикнопленные им к стене. У родственников вид был строгий и торжественный, в отличие от самого Федора Михайловича, который время от времени тоже забредал в свое теплое гнездышко, в скрипучих сандалиях и пижонском кепаре, подбирал за нами пустые бутьшки и, получив бабки за очередной месяц, исчезал во дворе между липами. Был май, погода стояла теплая, двор порос травой. Иногда, ночью, с улицы забредали настороженные парочки и занимались любовью на скамейке, застеленной старыми ковриками. Иногда, под утро, к скамейке выходили охранники из банка, сидели и забивали длинные, как майские рассветы, косяки. Днем забегали бродячие собаки, обнюхивали все эти следы любви и озабоченно выбегали назад – на центральные улицы города. Солнце всходило как раз над нашим домом.