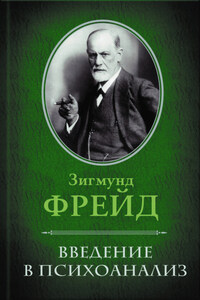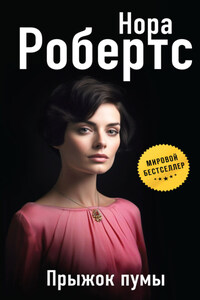* * *
Все права защищены. Охраняется законом РФ об авторском праве. Никакая часть электронного экземпляра этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Зорин Г. А., 2020
© Издательство «Aegitas», 2020
* * *
Ехал из загородного теремка, к которому привыкаю все больше, радовался летнему утру, смотрел на бесстрастную спину водителя, не пялясь на встречных и поперечных. Сколько я помню себя на свете, столько меня сопровождает раздражение от людского потока. Возможно, когда-то в моей подкорке вдруг поселился испуг перед множеством, возможно, в младенчестве некий страх сотряс мою душу, кто теперь скажет, но эта напасть со мной осталась.
Я научился ее скрывать, как нечто стыдное и дурное, к тому же обидное для окружающих. Поныне никто о ней не догадывается, хотя она никуда не делась. Наоборот, даже усилилась. Хотя, бесспорно, стала понятней.
Уже в пределах Москвы, на Кутузовском, на повороте, мой взгляд скользнул по переминавшимся пешеходам, которые, гася нетерпение, ждали зеленого сигнала. Скользнул и выдернул из толпы лицо, показавшееся знакомым. И весь немалый остаток пути я спрашивал себя: это она?
Нет, это вздор, случайное сходство. Да и не виделись столько лет, страшно подумать, легко ошибиться. Просто усталое лицо. Женщина, не пощаженная жизнью. Столько я видел подобных лиц, вянущих и уже смирившихся с тем, что их свежесть давно прошла. Нет, померещилось, помстилось. Так некогда изъяснялись авторы в златую пору нашей словесности. Если б она оказалась в столице, неужто не дала бы мне знать?
Была она худенькая до невесомости, глаза ее в коричневых крапинках мерцали задумчиво-отрешенно. Поморское северное лицо, северные твердые скулы, редкие в наших теплых краях. Единственная, должно быть, примета, которая могла бы запомниться. Да, скромная, неброская внешность. А голос был еще полудетский.
Вздор, сходство, игра воображения. И все же лицо на перекрестке не выходило из головы.
Поэтому и день не задался. Я неожиданно для себя отвлекся во время речи шефа. Взгляд мой поплыл над его шевелюрой, над хохолком, словно отбившимся от чинно уложенных волос.
Всего лишь на миг я выпал из времени. Но шеф отреагировал сразу. Я снова увидел, как мгновенно белеют его глаза и губы. Не раз был свидетелем этих вспышек. Но нынче я сам причина гнева. И это он мне, а не другому, бросил свистящим полушепотом: «Слушать! А если неинтересно, то вас не держат». Я промолчал. Знал, что оправдываться не надо. Нужно безмолвно принять пинок.
После, один, смиряя обиду, я по привычке искал оправдание этой не слишком пристойной сцене. Конец недели нервен и взрывчат – шеф устает себя контролировать. Бедняга. Он теряет лицо. Не может овладеть ситуацией. Я преисполнился пониманием.
В этом и состояло средство, найденное за годы службы. Средство умерить свою досаду и укротить свое самолюбие. Я начинал жалеть начальство, посмевшее устроить мне порку. Вы возвышаете свой голос, я возвышаю себя до жалости. Участливо прячу свое превосходство.
Как правило, такая инъекция мне помогала во всех кабинетах. Не исключая и самых грозных. Стоило очередному боссу сдвинуть брови, я себе напоминал: растерян, ищет правильный тон, все еще не может поверить, что он командует этим манежем.
Вот и сегодня, по той же схеме, я говорю себе: не ершись. В сущности, кто этот громовержец? Один из безродных баловней счастья, вытолкнутый наверх обстоятельствами. Дела у него давно не ладятся, он мучается, пыхтит, не тянет, хозяйство трещит и ползет по швам. Только одно ему и остается – время от времени исторгать из помертвевших стеклянных глаз этот пучок белого пламени. Нет, право же, гуманистический взгляд на сильных мира сего оправдан. Жалею, сочувствую, снисхожу.
Однако моя терапия буксует. Мне душно, и духота не проходит. Впервые полувскрик-полушепот обрушился на меня. Ну, нет! Я знаю, что я обязан сделать, – немедленно объявить об уходе. Я не из тех, кого можно размазать. Я не из тех… Но постепенно, с усилием, прихожу в себя. И тут меня пронзает догадка: моя смешная щенячья реакция связана с утренним эпизодом – я думал о женщине на перекрестке, которую принял за ту, и почувствовал, что я унижен в ее присутствии!
Ах, господи! Все еще как мальчишка. Не кипятитесь, гордый мужчина. Самое обычное дело. Тебе напомнили – и своевременно – разреженный воздух вершин суров. Требует всяческой концентрации. Ежеминутной, ежесекундной. Мудрее поблагодарить за урок.
Подобная солдафонская взбучка – очень умеренная плата за то, что жизнь так удалась. Три раза повтори это вслух. В расцвете своих сорока четырех почти достигнуть верхушки древа.
Тем более день уже позади, я еду обратно в свой теремок и буду принадлежать себе более суток – просто гулянка! Да и нервишки придут в равновесие. Как трудно мы расстаемся с юностью! Не отпускает, нет-нет и обдаст какой-нибудь жаркой шипучей пеной. И будто кровь мутит твою голову. А между тем ты давно не птенчик. Ты уже купан во всех щелоках.
Сейчас, когда я качу по Москве, уткнувшись глазами в шоферскую спину, мой пыльный, оставленный мною город кажется почти сочиненным. И знойный полуденный асфальт, и плотный почти внезапный сумрак, как будто падающий на улицы, на эти приземистые дома и чадные грязные дворы. Везде закоулки и тупики, шаг в сторону – и путь обрывается, словно внезапно вышел весь воздух.
И ты, мое родовое гнездышко, где я пробил скорлупу своим клювиком, не вызовешь умиленного отклика. Поныне гнетут полутемные комнаты, и темная нищая подворотня, и эти чаны, набитые мусором – из них тянуло гнилью и прелью. А пуще всего хотелось избавиться от клейкой родительской опеки. Хотелось заголосить: уймитесь! Зачем вы учите уму-разуму, если страшней всего повторить ваше дремучее прозябанье?
Мой бедный отец постоянно служил мишенью семейного остроумия. Он как никто умел оказаться в самой нелепой ситуации. В нашем семействе ему постоянно напоминали одно событие: в доме однажды вспыхнуло пламя, и он с непостижимым бесстрашием ринулся спасать партбилет. Мать не могла ни понять, ни простить этого беспримерного подвига, тем более что отец мой не слыл таким уж истовым меченосцем. Членство его скорее было карьерной удачей, нежели постригом. Теперь-то мне ясно, что в огонь вела его не верность идее, а мысль о неизбежной каре, не сбереги он своей святыни. Добавлю, что до конца своих дней он маялся комплексом полукровки, допущенного по чьей-то ошибке, по недосмотру, в священное братство. Спасал он не столько скрижаль господню, сколько единственную защиту от унижений и катастроф. Если уж даже мне, квартерону, эта треклятая четвертушка южной, не вовсе дозволенной крови все еще создает дискомфорт, то что говорить о моем родителе? Активная жизнь его началась уже во второй половине века, после триумфальной войны. Но побежденный внушил победителю, что сила этнической исключительности надежнее всех ракет на свете. Право, история поражений не знает второго такого реванша.