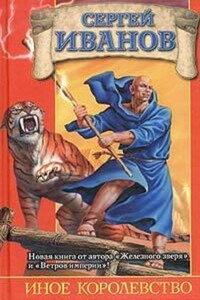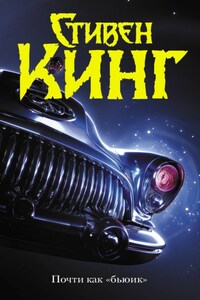Сто лет назад или около на дороге из Пуща-Водицы в Киев умерла старуха. Баба Руденчиха совершенно не собиралась этого делать, она была настроена на жизнь и на долгое путешествие аж до самой Белой Церкви, где вдовела ее старшая сестра. Семидесятилетняя Руденчиха собиралась соврать сестре Варваре, что пришла ради нее, чтобы подмогнуть в старости, все-таки той уже ближе к восьмидесяти, а Руденчиха, слава Богу, крепкая, до работы спорая, она еще самое то – принести и сделать. И баба шла быстро, ее босые пятки стукали по шляху вполне энергично и, может даже, отдавались в центре земли.
Пуща-Водица дула ей в спину ветром недобрым, но чем дальше, тем дула слабее, и в этом положительная сила расстояния. В Киеве баба собиралась помолиться, для чего говела уже две недели, чтоб снять грех со своей души, но, главное, с души тех, которые вытолкнули ее на дорогу. «Хай! – молилась Руденчиха. – Хай живуть!» Главное было – не думать про это все время. Про то, что она одна на дороге, в легком мешке у нее все, что у нее есть, и ей, как потом скажут ее правнуки совсем по другому поводу, нельзя ни шагу назад.
Руденчиха стучала по земле и мысли старалась отбирать исключительно местного значения. Вон та загогулина, что буковкой обзмеила овраг, пройдет – и дорога станет под гору, а там и Киев закрасуется так, что сердцу станет больно от красоты, и вот тогда она уже даст себе поплакать хоть и тихонько, но все-таки допуская к слезам тонкий голос, чтоб душе стало легче. От красоты можно и повыть в чистом поле, когда она сядет на землю и даст пяткам роздых.
Одновременно…
Из Киева в Пущу-Водицу – совсем наоборот – шел еврей Хаим, это был случайный проходящий еврей, которому вообще-то надо было в другую сторону, но так встали звезды, что и он своими босыми пятками (ну чем их можно еще заменить?) дошел до того места, где ногами в сторону Киева лежала баба Руденчиха и рот ее был жадно и навсегда открыт небу. Хаим сказал что-то на своем печальном языке и оттащил бабу в хорошую такую ямку, которую придумала сама природа как бы специально для Руденчихи. В мешке ее он нашел бумаги, но Хаим не знал грамоты этого народа, он только по-польски немножко читал по-печатному.
Конечно, можно было сделать вид, что его не касаются мертвецы, лежащие на дороге, и не его дело с ними как-то поступать. Но Хаим очень хотел бы, чтобы его тоже быстро положили в землю, если придет его час, и чтоб ни у кого не возникло мысленных затруднений на этот счет. И он, выпевая свою молитву, хорошо присыпал Руденчиху, закрыв ей лицо платочком в мелкую такую точечку. И трохи посидел рядом с могилкой, думая над жизнью как таковой… Жизнь не давалась ему в разумение, а положиться без задумчивости на Богом данные истины у него почему-то не получалось. Истины были прекрасные, но хрупкие, а жизнь некрасивая, но сильная, и концами они не сходились. Имеются в виду истины.
Покидая уже никуда не идущую Руденчиху, Хаим попросил Бога, чтоб он не оставил его с открытым в небо ртом, чтоб нашелся и для него по дороге путник с правильными понятиями.
Через сто лет или около на тахана-мерказит маленького города близ Хайфы, что в Израиле, сомлела пожилая дама, всем своим видом доказывающая непричастность к народу этой земли. Она уперлась спиной о бетонный стояк этой самой таханы, или этой самой мерказит, одним словом, дело было на автобусной станции. Дама, значит, сомлела, но не упала, а осталась сидеть, откинувшись на стояк.
Ее приметили скоро: если не через десять минут, то через пятнадцать точно. И тут же завыла не своим голосом амбуланц – то есть «скорая помощь», – хотя почему не своим, очень даже своим – и молодой бородатый доктор Хаим сам положил даму на носилки и дал всему этому делу колеса и ноги, и уже скоро все, кому надо, знали, что всякие трубочки, шлангочки и прочие стражники жизни приставлены к Анне Лившиц, приехавшей в гости и так далее.
Внешний мир спорадически пробивался к мозгу женщины, она слышала его всплески, но когда они исчезали, на самом моменте их излета, утихания, возникало нечто, что в переводе на язык жизни можно было бы приблизительно обозначить как радость и удовлетворение… Но это очень приблизительно, как приблизительно само наше немощное представление о том, что с нами случается там, за гранью. Гораздо интереснее в смысле описания живой и полнокровный доктор Хаим, который, успокоившись состоянием больной, покинул ее – и зря, между прочим, – на могучую аппаратуру и сноровистых медицинских сестер, а сам вышел в коридор, где, не озабоченные сохранением тишины, шумели многочисленные евреи, и Хаим (Леня Вильчек в прошлой жизни) в который раз подумал о том, что своих соплеменников он любит вкрапленными в тело других народов, там они как бы умнее и как бы выдержаннее, а тут одна орущая «мешпуха». То бишь семья. Леня-Хаим был немножко художником – так, для себя, без всяких претензий. Он малевал под Шагала, под Дали, под Шемякина, это самое «под» было в его картинах главным и даже как бы позорило Леню, но ведь он и не лез со своими картинками на выставки, он даже никому их не дарил. Они висели у него дома в темном коридоре – так решила его жена, – и он не спорил, еще чего! Там им, скорее всего, и место. Но когда никого не было дома, он включал все лампочки и ходил по коридору туда-сюда, туда-сюда, и на него падали из иллюминаторов самолетов скрипки, шахматные доски, «Анны Каренины» и таблицы логарифмов. Картина под Шагала, которая устраивала это безобразие, называлась «Освобождение от лишнего. Исход из России».
Сейчас Хаим, не художник, не мазила, а реаниматор Божьей милостью, разглядывая орущую семью Анны Лившиц, особо выделил хлопающую руками по широким, квадратным бедрам женщину, определил ее как главную в этом кодле и обрадовался, что не надо выстраивать на кончике языка медленный ряд ивритских слов, так как «бедра в квадрате» говорили на хорошем русском, которому Богом дано выражать словами много больше, чем только смысл самих слов. В русской речи есть еще нечто – надсловие, подсловие, а есть и что-то притулившееся рядом… Правильно делают те, кто упорно овладевает английским. Вот он как раз создан для того, для чего и быть языку – для понимания, тогда как наш великий и могучий – и для понимания, конечно же!
– но и для того, что над… под… и сбоку…
Хаим уже растянул губы от радости этой русской непонятности, но мы его оставим на этом. Хаимы в нашей истории сыграли свои исторические роли, они Первыми держали за концы Полог целого столетия, который нам надлежит сейчас натянуть как следует, чтоб кусок человеческой истории вместился под ним, как помещаются дети под простыней, тряпкой, полиэтиленом, натянутыми на что ни попадя, чтоб сыграть под прикрытием, как под небом, свою игру в дочки-матери.