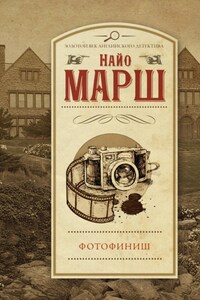По мере того как движется прогресс, и в нашем обществе растет уверенность, что «все к лучшему в этом лучшем из миров», мы все больше тянемся друг к другу в поисках тепла. Сегодня нам нравятся маленькие и уютные дома с кухнями, а не холодные громады гулких холлов, мы словно плотнее натягиваем на себя свое жилье, поеживаясь от сквозняка. Мелкие клерки, некогда грезившие уединением, теперь селятся в хорошо развитых районах с транспортной доступностью. Загородные резиденции в самых фешенебельных местах вывешивают объявления о продаже, взывая к несуществующему покупателю, а их прежние обитатели живут в крошечных коттеджах, компенсируя свои потери обязательным гаражом и двориком из шлифованной брусчатки. Даже крупные домовладельцы, хозяева тенистых парков и классических особняков – мечты любого англичанина – бросили свои дорогостоящие поместья и перебрались в лондонские квартиры с видом на зеленый сквер и более или менее респектабельным почтовым адресом (если не считать всяких там «95в»). Впрочем, тем приятнее сознавать, что и в наше время еще находятся почтенные семейства, которым удается поддерживать былое великолепие своих владений: подпирать ветхие ограды, пропалывать заросшие дорожки, менять обвалившуюся черепицу, что позволяет местным гидам с гордостью говорить об «исторических поместьях». Вероятно, пройдет десяток лет, и эти последние бастионы прошлого также падут, побежденные налогами на землю и наследство. Цветущие луга окончательно придут в упадок, мощные трактора перепашут бывшие угодья, а их новые владельцы, взяв за образец советские колхозы, выведут на поля наемных работников. И только два или три «родовых гнезда» сохранят на пожертвования граждан, чтобы произвести впечатление на какого-нибудь американского туриста: в качестве, так сказать, достойного ответа на индейские резервации, где они держат своих краснокожих.
Больше всего подобных реликтов старины вы найдете в Шотландии. Может, шотландцы более чем англичане склонны к пережиткам феодальной гордости, наверняка в Эдинбурге не так рьяно гоняются за модными веяниями, как в Лондоне. Или же все дело в том, что в тех краях даже в наше время можно рассчитывать на хорошую охоту. В любом случае все сказанное относится к Риверам из Дорна – семейству, о котором пойдет наше повествование. Риверы жили на своей земле с незапамятных времен, еще до битвы при Бэннокберне, и не видели в этом повода для гордости. По местной легенде над семьей тяготело фамильное проклятие (вероятно, сильно преувеличенное местными сплетниками), по которому наследство Риверов никогда не переходило по прямой линии. Говорили также, что смерти наследника предшествовали некие предзнаменования. Действительно, большинство Риверов умерли бездетными или пережили своих наследников. И это лишь усиливало привязанность Риверов к земле: по давней традиции родовое поместье целиком и полностью переходило к главе семьи, а тот, понятно, не имел желания делиться им со своими многочисленными кузенами, тем более что часто был с ними не в лучших отношениях. Вот и Дональд Ривер, руководивший хозяйством в трудные годы войны и послевоенных неурядиц, в пух и прах разругался со своим кузеном Генри, причем случилось это настолько давно, что никто уже не помнил о причинах ссоры. Размолвку подпитывало близкое соседство: Генри Ривер поселился в том же графстве недалеко от Дорна, и их постоянные встречи в обществе еще больше обостряли взаимную неприязнь.
Надо заметить, что поместье Дорн отнюдь не являлось «теплым местечком» для его владельца. К нему примыкали фермы, и в итоге приходилось заниматься сельским хозяйством. Часть пространства покрывали густые леса, что требовало знаний и умений лесника. К этому можно добавить и проблемы с правами на охоту, и плохо проведенные границы, и дополнительную головную боль в виде залежей угля. Кроме всего прочего, каждый хозяин считал нужным применять последние достижения научного прогресса, так что Дорн настолько хорошо обеспечивал сам себя, что мог бы выдержать долгую осаду. Молоко с ферм доставлялось в соседние города; куры несли яйца для дальних рынков; мясо и сыр производили для себя сами, в поместье работал не только плотник, но и кузнец. Повсюду торчали крыши хозяйственных сооружений: водонапорной башни, мини-электростанции, оросительной установки, большого ледника, который зимой наполнялся кусками льда, а потом все лето он истекал влагой. Распоряжаться такой недвижимостью, на самом деле, означало находиться в ее власти: она не оставляла времени ни для общества, ни для досуга. Рано или поздно вы превращались в одного их тех высокооплачиваемых служащих, которые бесконечно вращают колесо индустрии, попадая в порочный круг потребления и производства.
Дональд Ривер, пока была жива его жена, как нельзя лучше подходил для подобной деятельности и даже находил в ней удовольствие. Но люди, знавшие его, замечали, что он работает с механическим упорством честного наемного рабочего и находит утешение лишь в удовлетворении, которое приносит хорошо выполненное дело, душа его в этом не участвовала. Чтобы всерьез играть роль землевладельца, нужно верить, что твое наследие перейдет в руки сына, и он будет ценить и пестовать его не меньше, чем ты сам. Но в Дорне ни для кого не являлось секретом, что молодой хозяин не намерен идти по стопам отца. Колин Ривер считался среди соседей чуть ли ни инвалидом. Слабые легкие доставляли ему много неприятностей, и кузен Генри, помимо всяких слухов про семейное проклятие, не без оснований надеялся, что когда-нибудь будет стоять у его могилы. Правда заключалась и в том, что Колин, будучи наследником, не питал интереса к своему наследству. Вся энергия отца, казалось, перешла в его дочь Мэри. Она уже вышла замуж за состоятельного бизнесмена и не могла претендовать на поместье. Что касается ее брата, тот выглядел бледным и вялым существом, о котором с уверенностью можно было сказать одно: ему не хватает жизненных сил. Школьный учитель, однажды заметивший: «Ривер, в этом мальчугане нет никаких страстей», – фактически написал его эпитафию. Колин был спокойным, но не добрым; молчаливым, но не задумчивым; сдержанным, но не внушающим доверия. Его взгляд, обращаясь в вашу сторону, не выражал даже обычного человеческого интереса, равнодушно предоставляя вам право думать о нем что угодно. Колин почти не улыбался, а если это все-таки случалось, казалось, он улыбается собственным мыслям. При этом в его внешности не было ничего уродливого или отталкивающего; к тому же, закончив частную школу, он приобрел тот светский лоск, который легко усваивают выпускники подобных заведений. Но испытывать к нему симпатию было невозможно. Приехав в Дорн, один из самых мирных уголков Шотландии, через два-три дня вы начинали замечать, что молодой наследник постоянно раздражает собственного отца. Отцовская любовь может закрыть глаза на самый дикий и тяжелый нрав, на любые погрешности в морали, но ей не под силу расти на каменистой почве полного бездушия.