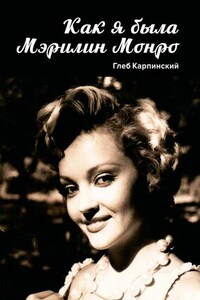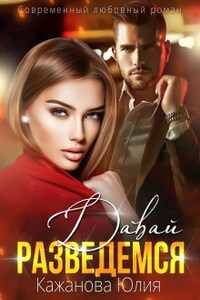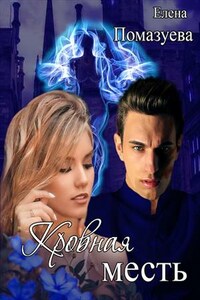Одной замужней женщине, зачуханной жизнью, приснился чудный сон, будто оказалась она в палатах белокаменных, заблудилась-заплутала по коридорам изогнутым да зашла в опочивальню царскую. И там, дескать, царь бородатый на белоснежных перинах думу думает, при всем параде, в парчовом, расшитом золотом платье, со скипетром, а на голове шапка соболиная да с дорогими каменьями. И этот царь, сильный и грозный, изогнул бровь сердито да склонил ее, непутевую гостью, к разврату, и она особо и не сопротивлялась даже, а, наоборот, предалась ответной страстью, и это несмотря на то, что была замужем и всегда отличалась высокой нравственностью.
Проснувшись же поутру, у нее было игривое настроение. Подивилась она диву дивному, чуду чудному, и призналась себе, что царь хоть и не молод был, да уж больно охоч и хорош в постели, и что прежде до него у нее никогда не было такого искусного и пылкого любовника. Припомнила она также и прощание с помазанником Божьим, и как облобызались они, как следует, и поцелуй этот царский так и тлел у нее на губах алых, покусанных сладкою истомою.
– Ты, – сказал он ей, осеняя крестным знаменем, – жена красивая, видная… Заходи ко мне без спроса, без челобитной, как свойская, всегда рад буду. А коль обидит тебя кто иль причинит хоть стеснение малое, на дыбу негодяя сам лично вздерну, не посмотрю на чины и звания, никому спуска не дам!
И когда водитель маршрутки привычно нахамил этой женщине, что, мол, она, клуша, не посторонится даже, создавая препятствие другим пассажирам, она заткнула ему рот, крикнув на весь салон:
– Да как ты смеешь, смерд, так говорить со мною, со мною, с Марфою Тимофеевной! Белены али наелся до пуза и не признаешь меня, окаянный? Вот еще одно слово поганое вякнешь, и ждет тебя плаха с острыми топорами! Уж я-то тебе обещаю!
Сказано было все это так убедительно и доходчиво, что все пассажиры в маршрутке притихли и вжались в сиденья, включая водителя, и всю дорогу до метро ехали молча, опасливо поглядывая на серьезную женщину.
В то же утро во время жуткой давки в метро ей кто-то наступил на ногу, и его тут же настращали царским гневом и пообещали непременно посадить на кол вместе с другими нерасторопными. Отчего окружающие побледнели и расступились живым кольцом, а были и те, кто чуть не лишился чувств, повиснув прямо на хрупких плечах своей губительницы.
Но все это были цветочки, а я годки потом. На работе самодур-шеф, всегда отличавшийся чрезмерной придирчивостью к персоналу, сделал нашей героине неуместное замечание в присутствии клиентов. «Мол, ты, непутевая дурочка, не так отксерила бумажку да, и вообще, опоздала в офис». Сказал он это, чтобы возвыситься в глазах последних, и возвысился, правда, в буквальном смысле, когда его, точно грязную половую тряпку, взяли за грудки маникюрные пальчики и приподняли малость.
– Что ты… что ты, Марфа Тимофеевна… окстись, я лишь хотел сказать, как наша компания дорожит Вами, – прошептал он, мягко сказать, шокированный.
И не успели его начищенные до блеска туфли коснуться опять паркета, как ему пообещали прижизненное четвертование, если он еще впредь позволит себе нечто подобное. В тот же день женщине подняли зарплату и возвысили в должности. Так что ей пришлось немного задержаться в отделе кадров.
Когда же она вернулась домой, горящая от нетерпения поделиться радостной новостью с мужем, тот, временно безработный, выказал ей свое недовольство, пробубнив что-то под нос.
– Вот припозднилась, Марфушечка-душечка, не запылилась! Пока ты там развлекаешься с ксероксами заморскими, я тут голодный сижу, от тоски прозябаю. Никто мне борщи не варит и пельмешками ручной лепки не потчует…
– Сейчас, милый, – ухмыльнулась жена подозрительно, – попотчую я тебя и борщиком, и пельмешками… – и взяла нахлебничка за шиворот и выпроводила тунеядца на лестничную клетку на устыжение соседушкам.
Узревший перспективу бродяжничества, вмиг осиротевший, еще долго он ползал в ногах, выпрашивая у жены взбунтовавшейся прощения. В тот же вечер все соседи видели, как летел он в магазин, быстрее стрелы монгольской, да вернулся с пакетами неподъемными, чтобы приготовить ужин изысканный со свечками и бутылкой неплохого вина.
А уже под ночь самую, одеялом накрывшись, ожидал он, точно приговора, жену свою, кормилицу, да та задерживалась, составляя за столом какой-то страшный черный список. И шептали ее губы заговорщицки в тишине ночной фамилии и имена незнакомые и знакомые, и всякие прозвища, приличные и неприличные, и множился этот список расстрельный, точно саранча в поле, и дивился муж бесчисленности всех этих грешников, и даже всё в одной тетради не уместилось. А когда прозвучало и имя мужа, ненароком, словно подводя итог вышенаписанному, воспротивился он и заглаживал вину без устали, как в последний раз, и только под утро облегченно вздохнул, когда увидел, что его все же вычеркнули.
– Милый, так хочется чего-нибудь вкусного в постель, – потянулась довольная жена, прикрывая зевоту ладошкою.
Вся жизнь у нее налаживалась. Спасибо царю-батюшке! И тогда прошелся прощеный в трапезную и стал варить там кофий ароматнейший и намазывать бутерброды с маслицем. И не жалел он ни кофия, ни маслица, и все яства эти поставил на поднос расписанный и пошел на цыпочках к жене своей на поклоны. Да та спала уж сладко и во сне улыбалась улыбкою счастливой.
Так повелось и дальше. Все теперь к этой женщине относились с почтением, в транспорте общественном место уступали, на работе уважали и побаивались, а муж дома на руках носил, пылинки сдувал да всякими сюрпризами приятными баловал.