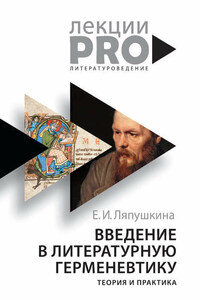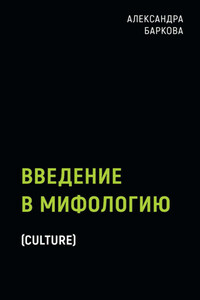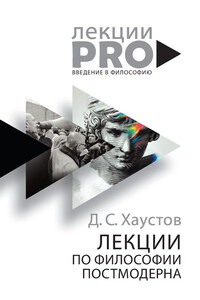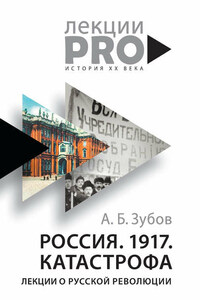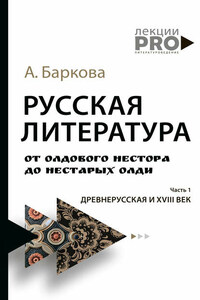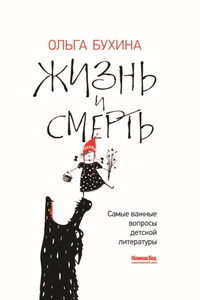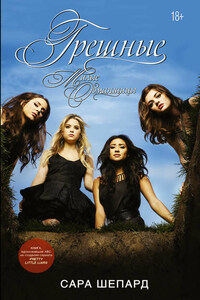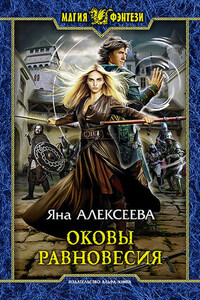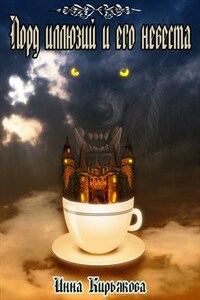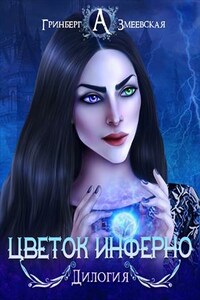1. «Универсальная» герменевтика Ф. Шлейермахера
Происхождение термина «герменевтика» связывается с именем олимпийского бога Гермеса, выступавшего в роли вестника, проводника, посредника между богами и людьми: Гермес передавал людям божественную волю, объясняя и истолковывая ее смысл.
Герменевтическая проблематика уходит своими корнями, во-первых, в античную, а затем классическую филологию, во-вторых, в библейскую экзегезу и, в-третьих, в юриспруденцию. В поздней античности филологическая герменевтика занималась толкованием «темных мест» в текстах классических поэтов; в пределах сформировавшейся в эпоху Возрождения классической филологии герменевтика понималась прежде всего как искусство перевода памятников античной культуры на язык культуры современной; теологическая герменевтика занималась толкованием священных текстов, выяснением правил и пределов понимания этих текстов (теологическая герменевтика развивалась в значительной мере в условиях резкой полемики протестантских и католических богословов по вопросу о возможности правильного истолкования Священного Писания вне контекста собственно церковной догматики); и, наконец, юридическая герменевтика разрабатывала приемы и способы толкования юридических кодексов, терминов, законов. Очевидно, что каждая из упомянутых дисциплин (филология, теология, юриспруденция) самостоятельно и изолированно занималась проблемами толкования, исходя из специфики собственного предмета, и каждая, соответственно, породила собственную, специальную, герменевтику. Проблема же понимания как общая проблема возникла тогда, когда стало очевидно, что при всем разнообразии герменевтических объектов сами принципы понимания и интерпретации едины.
Вопрос об этом единстве впервые поставил немецкий ученый – филолог, теолог, философ, автор трактатов «Диалектика», «Герменевтика», «Критика» Фридрих Шлейермахер (1768–1834), который и считается основоположником современной герменевтики.
В сущности, в эпоху Шлейермахера герменевтика переживает свое второе со времен античности рождение, обретая статус философской дисциплины. Шлейермахер осуществил важнейшую переакцентировку основной герменевтической проблемы, то есть проблемы понимании и интерпретации: он перешел от предмета понимания к природе понимания как такового, концептуально поставив вопрос о том, что такое понимание и что такое смысл.
Осознание универсальной основы понимания существенным образом изменило и представление об объекте понимания. Отныне он перестает носить выборочный – в зависимости от ценностных критериев – характер: пониманию подлежат не только высокие образцы античной литературы или тексты Священного Писания, пониманию подлежит вообще любой устный или письменный текст, любой речевой акт. При этом существеннейшей идеей герменевтической системы Шлейермахера, обнаруживающей романтические истоки его философии, становится идея личности: на что бы ни было направлено понимание, каков бы ни был его объект, оно в конце концов всегда оказывается направленным на человека, на личность, выразившую себя посредством языка через тот или иной объект.
Потребность и возможность понимания другого человека обусловлена, с точки зрения Шлейермахера, наличием единого субстрата общечеловеческой природы: да, все люди различны (предпосылка для непонимания), но это различие сводится лишь к различию в сочетании и мере проявления тех или иных общих, присущих всем людям свойств человеческой природы. Каждому человеку свойственно то, что так или иначе наличествует во всех остальных людях, в любом другом человеке – в этом смысле человек «узнаваем». Поэтому, в сущности, нет ничего такого, что в силу собственной «неузнаваемости» могло бы обречь человека на то, чтобы он остался непонятным (непонятым). Таким образом, находится мощная предпосылка для перехода от непонимания личности к ее пониманию, которое, в свою очередь, совершается на путях истолкования текстов, поскольку в тексте, по мысли Шлейермахера, авторский аспект оказывается не менее существенным с точки зрения информативности, чем предметно-содержательный. Понимание текста – это не просто понимание того, о чем в нем говорится, это прежде всего понимание того, как об этом «чем-то» говорится. В этом как и проявляет себя личность автора, поэтому именно через понимание текста возможно и необходимо прийти к постижению личности автора – такова логика Шлейермахера.
Шлейермахер предлагает два вида истолкования текста: грамматическое (в результате которого выявляется индивидуально-стилистическая манера автора произведения, неповторимое своеобразие данного автора, выразившееся в языке); и психологическое (в пределе направленное на выявление того первоначального бессознательного импульса, который провоцирует творческий акт). Соотношение грамматического и психологического истолкований, таким образом, отражает соотношение языка и мышления, их неразрывную связь.
На протяжении всего процесса истолкования, на «грамматическом» и «психологическом» его этапах, должны использоваться – не соответственно этим этапам, но одновременно и применительно к каждому из них – два равноправных метода: сравнительный, основанный на анализе, и дивинационный, основанный на интуиции, прозрении, догадке. Отметим, что для Шлейермахера чрезвычайно существенным, даже необходимым условием, обеспечивающим успешность познавательного процесса, оказывается постоянное взаимодействие (но не смешение) этих двух методов. В процессе познания и два вида истолкования, и два метода поочередно сменяют друг друга, придавая самому процессу циклический характер.
С тем же циклическим характером процесса понимания связана еще одна проблема герменевтики – проблема герменевтического круга. Принцип герменевтического круга был воспринят герменевтикой из античной риторики (вопрос о соотношении частей и целого); он широко практиковался и в экзегезе Средних веков, требовавшей для понимания библейского текста веры в него, а для веры – его понимания. Герменевтический круг предполагает попеременное понимание части из целого и целого из части: для того чтобы понять целое, необходимо понять его части, но понять части можно, лишь поняв целое. По мысли Шлейермахера, процесс понимания совершается именно в пределах такого рода взаимосцеплений; этот процесс проходит несколько стадий корректировки смысла (целого – частями и наоборот) и в результате, в идеале, должен привести к адекватному пониманию всего текста. Конечной целью понимания, его итогом должно стать полное слияние интерпретатора с личностью автора, который выразил себя в тексте. Такое слияние достигается на пути продвижения интерпретатора от произведения автора к первоначальному импульсу, породившему это произведение, – то есть, по сути дела, интерпретатор проделывает в обратном направлении путь самого автора, полностью повторяя его творческий акт. При этом интерпретатору необходимо учесть не только авторское сознание, но и подсознание, и то бессознательное, что независимо от авторской воли проявилось (или не проявилось) в произведении. То есть в конце концов интерпретатор должен понять автора лучше и в большем объеме, чем автор сам себя понимает. Естественно, что достичь такого понимания может только человек, наделенный соответствующим талантом. Талант интерпретатора, таким образом, становится условием, необходимым для того, чтобы понимание состоялось.