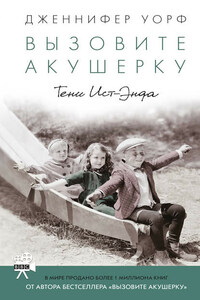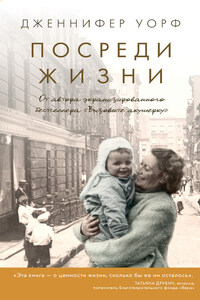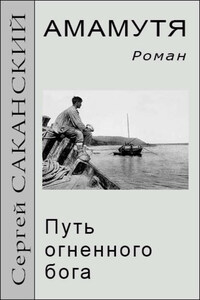Ноннатус-Хаус служил одновременно и обителью, и приёмным покоем для ордена сестёр Святого Раймонда Нонната[1] и располагался в сердце лондонского района Доклендс. Медсёстры и акушерки Ноннатус-Хауса работали с жителями Собачьего острова, Степни, Лаймхауса, Миллуолла, Боу, Майл Энда и частично Уайтчепела. Я служила там в 1950-х годах. После войны прошло ещё совсем немного времени, и город был покрыт шрамами – пустыри, разрушенные магазины, перекрытые улицы и дома без крыш, зачастую заброшенные. Тогда порт работал в полную силу, и каждый день здесь разгружали и погружали миллионы тонн груза. По Темзе ходили огромные торговые суда и пробирались к пристаням по сложной системе каналов, шлюзов и бухт. Совершенно обычным делом было идти по улице всего в нескольких футах от гигантского торгового корабля. Даже в середине века около шестидесяти процентов всех грузов разгружалось вручную, и порты кишели рабочими. Многие из них вместе с родными ютились в крохотных окрестных домишках.
Семьи тогда были огромные, но все жили в тесноте. Сегодня такие жилища остались разве что на страницах Диккенса. В большинстве была проведена холодная вода – но не горячая. Примерно в половине домов имелся туалет, но у остальных уборная располагалась на улице, зачастую общая с соседями. Ванн почти нигде не было. Мылись в корыте, которое ставили на пол кухни или гостиной, или же ходили в общественную баню. Почти везде было электрическое освещение, но часто встречалось и газовое, и мне не раз приходилось принимать роды при тусклом газовом свете или же при свете фонарика или керосинки.
Тогда, незадолго до революции, которую произвели оральные контрацептивы, женщины рожали часто. Моей коллеге довелось принять восемнадцатого ребёнка у одной матери, а мне – двадцать четвёртого. Конечно, до такого доходило редко, но десять детей были обычным делом. Хотя в моду уже входил обычай ложиться в больницу для родов, женщины в нашем районе не гонялись за новизной и предпочитали разрешаться дома. Всего двадцать-тридцать лет назад они принимали роды друг у друга – так же, как делали веками – но в 1950-х, с учреждением Национальной службы здравоохранения, беременностями и родами стали заниматься квалифицированные акушерки.
Я работала с сёстрами Святого Раймонда Нонната, религиозным орденом монахинь-англиканок, история которого восходит к 1840-м. Этот орден объединял под своим крылом санитарок – в те времена, когда их считали отбросами человеческого общества. Сёстры, на всю жизнь связанные обетами бедности, целомудрия и послушания, жили в Попларе с 70-х годов XIX века. Они начали свою деятельность в то время, когда беднякам не оказывалось фактически никакой помощи и женщина с ребёнком выживала или умирала в одиночестве. Послушницы были бесконечно преданы религии и людям, которых считали своими подопечными. В те времена, когда я работала в Ноннатус-Хаусе, старшей сестрой была сестра Джулианна.
Зачастую монастыри притягивают женщин средних лет, которые по тем или иным причинам не могут больше справляться со своей жизнью. Они всегда одиноки – вдовые или разведённые. Зачастую это тихие, застенчивые, деликатные женщины, страстно тянущиеся к добру, которое видят в монастыре, но не могут найти в жестоком внешнем мире. Обычно они истово соблюдают все ритуалы, и монастырская жизнь видится им чем-то романтическим и потому бесконечно желанным. Однако мало кто из них способен дать пожизненный обет нестяжания, безбрачия и послушания – и мало кому, подозреваю, хватило бы силы воли соблюдать этот обет. Поэтому они колеблются на пороге, не входя в этот мир, но и не покидая его.
Такой была Джейн. Когда мы познакомились, ей, видимо, было около сорока пяти, но выглядела она старше. Высокая, худая, она выглядела как леди: тонкая кость, изящные черты лица, изысканные манеры. В другом месте она сошла бы за выдающуюся красавицу, но из-за своей неряшливости казалась блёклой и невзрачной. Вероятно, в этом и состояла её цель. Мягкие седые волосы могли бы очаровательно виться, но она стригла их сама, и причёска смотрелась рваной и бесформенной. Высокий рост мог бы придавать благородство её облику, но она сутулилась, из-за чего выглядела несколько подобострастно. В больших выразительных глазах, окружённых морщинами от вечного беспокойства, застыла тоска. Голос её звучал тихо, словно шелест, и она не смеялась, а скорее нервно хихикала.
Вообще нервозность была её определяющей чертой. Казалось, она боится всего вокруг. Даже за обедом она не осмеливалась браться за приборы, пока остальные не приступили к еде, и у неё так тряслись руки, что она то и дело что-нибудь роняла, после чего долго извинялась перед всеми, а особенно перед сестрой Джулианной, которая неизменно сидела во главе стола.
Джейн много лет прожила в Ноннатус-Хаусе и была здесь чем-то средним между медсестрой и прислугой. Я считала её очень образованной женщиной, которая легко могла бы стать хорошей медсестрой, но что-то ей мешало – видимо, вечная робость. Она не сумела бы взять на себя ответственность, неизменно ложащуюся на всякого медика. Поэтому сестра Джулианна поручала ей простые задачи: сделать обёртывание, клизму или принести что-нибудь пациентке. Выполняя эти поручения, Джейн была вне себя от волнения – она вечно копалась в сумке и бормотала: «Так, мыло, полотенца. Всё взяла? Ничего не забыла?» На работу, которую любая опытная сестра выполнила бы за двадцать минут, у неё уходило два, три часа, а закончив, она страстно ждала признания, словно моля взглядом об одобрении. Сестра Джулианна всегда отмечала её скромные достижения, но я видела, как докучает ей необходимость постоянно помнить, что Джейн надо хвалить.