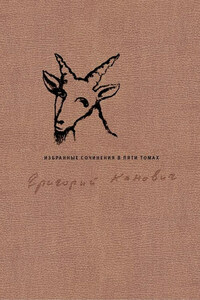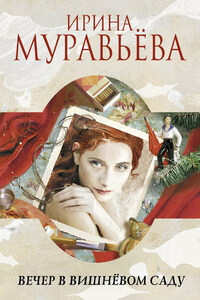Для всех жильцов нашего двора на проспекте Сталина осталось загадкой, как пятикомнатное жилище адвоката Мечислава Авруцкого, не пожелавшего, видно, выступать в наспех учрежденных народных судах защитником рядовых, безденежных трудящихся, обиженных новыми властями, превратилась в коммунальную квартиру. Воспользовавшись правом на репатриацию, господин адвокат перебрался из Вильнюса на родину, в Польшу, в более доходную Варшаву, а его вместительное, в прошлом со вкусом обставленное жилище служащие горисполкома разделили на три неравные части и поделили между квартиросъемщиками. Четыре комнаты из пяти поделили поровну – две отдали Вениамину Евсеевичу Гинзбургскому, директору местной типографии, печатавшей с матриц самую правдивую в мире «Правду» и брошюры о преимуществах социализма над загнивающим по неизвестной причине Западом; две другие комнаты заняли мы – вернувшийся из военного госпиталя в Восточной Пруссии мой отец, мужской портной, моя мама, вечная домохозяйка, и я, гимназист шестого класса; а самая крохотная, похожая на кладовку, досталась бывшему бакалейщику Йослу Гордину, чудом выжившему при немцах на крестьянском хуторе недалеко от его родного местечка Езнас.
– Меня зовут Йосл Гордин, по прозвищу Везунчик. Это прозвище я получил еще в довоенные времена, – при первом знакомстве сказал маме новый сосед, когда они столкнулись на общей кухне с облупленными стенами и треснутым оконным стеклом, за которым голубел задымленный лоскуток неба.
– А я – Хене… Хенке… Правда, прозвища пока не заслужила.
– Вы спросите, Хене, почему Везунчик? – Гордин на минутку задумался и с горькой усмешкой сам себе ответил: – Мне всегда в жизни везло… Бывало всякое, не раз, поверьте, я и слезами обливался, но мне действительно везло больше, чем другим. За какие заслуги меня так хранил Господь, сам не знаю. Возьмем, например, войну. Все мои родичи погибли, а я уцелел. Такого везения, конечно, никому не пожелаешь – ведь изо всей родни только я и остался в живых. И вот я, Везунчик, стою перед вами, уважаемая Хене, и жарю себе на примусе яичницу из трех полновесных яиц. Жарю и даже напеваю для аппетита песенку про солдат, которые «пусть немного поспят». Почти каждый день я слышу эту песенку у себя на складе по бесплатному московскому радио. Вы меня слушаете? – вдруг спохватился Йосл.
– Слушаю, слушаю.
– Я своей болтовней, наверно, вам все уши замусорил. А вы никак не можете дождаться, когда я заткнусь, и наконец освободится примус?
– Нет, нет. Примус мне не нужен…
– Сейчас, я только переверну на другой бочок яичницу и передам в полное ваше распоряжение все – и плиту, и примус, и сковороду, и этих гадких и бессовестных мух, которые садятся на мою лысину, как на аэродром. Надеюсь, ваш молчаливый Соломон вас ко мне не приревнует.
– Ах, если бы мой Соломон был способен на ревность!
– А я, скажу вам честно, свою Нехаму ревновал… К мяснику Хаиму, к сапожнику Хонэ, к аптекарю господину Абрамсону. Даже к нищему Авнеру. Она ему не только всегда два раза на дню милостыню подавала, а приглашала к нам домой на все праздники. – Гордин вытер рукавом лысину, вздохнул и продолжал. – Война избавила меня от ревности. На том свете никто никому глазки не строит… Ну вот, моя яичница готова. Не найдется ли у вас, Хене, к ней парочка солененьких огурчиков? Забыл, старый пень, купить. Обещаю завтра же сходить на базар и вернуть вам должок. Я никому никогда не оставался должен. Как лавочник, пусть и бывший, я привык всегда возвращать долги в срок.
– Не беспокойтесь! Найдутся у меня для вас не только огурчики, но и квашеная капустка.
– И после этого кто-нибудь мне скажет, что я не везунчик? – с той же горькой усмешкой спросил Йосл и сам себе ответил: – Везунчик! И еще какой!..
Наслышанная про набожность Гордина, мама успокоила его:
– Можете смело кушать. Всё кошерное…
– Спасибо, Хене, спасибо… Вы такая же добрая, как моя покойная Нехама. Но я вас тоже хочу успокоить. Наш Великий Бог позаботился о своих избранниках, которые нередко попадают в беду. Ради спасения жизни, как сказано в нашей Торе, еврей может иногда нарушить закон и съесть некошерную пищу. Даже – страшно вымолвить – свинину. Спасибо, спасибо, – ещё раз поблагодарил Йосл и, осторожно переложив сияющую благодатью яичницу в тарелку, отправился с ней и дарёными солёными огурчиками в свою келью.
Вскоре из-за двери его комнатушки по-русски невнятно, бормотливо донеслось: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят…»
Солдатом Гордин никогда не был, ни в какой армии не служил. Но перед тем как отправиться на работу, просил втихомолку и у соловьев, и у самого Господа Бога, чтобы они не тревожили никого из тех, кто устал от этой страшной войны и кто спасся, как он выражался, от этих проклятых немцев, давая понять, что среди заслуживших спокойного сна и он – Везунчик.
В выходные дни, когда Гордину не надо было спешить в типографию, куда его устроил кладовщиком другой наш сосед – доброжелательный Вениамин Евсеевич Гинзбургский, довоенный спец по печатному делу, Йосл после завтрака и сам сладко и глубоко засыпал под эту песню, как новорожденный под колыбельную. И тогда всю тесную прихожую, как задиристый весенний гром, сотрясал его могучий и победоносный храп.
В субботние дни директор типографии Вениамин Евсеевич Гинзбургский делал богобоязненному Гордину поблажку: разрешал ему не выходить на работу – «болеть».
Не притронувшись ни к примусу, ни к чугунной сковороде, «больной» Йосл-Везунчик надевал чистую, тщательно выглаженную белую рубашку с широкими манжетами, длинный двубортный пиджак с накладными карманами, купленный по дешевке на толкучке у какого-то отъезжающего на родину довоенного польского гражданина, обувал начищенные черной ваксой тупоносые водоупорные ботинки, прикрывал свою ленинскую лысину ермолкой и ни свет ни заря отправлялся на Завальную в Хоральную синагогу.
Гордин всякий раз старался уйти незамеченным, но коммунальная квартира была не тем местом, где можно было улизнуть от чужих глаз.
В одно субботнее утро мама остановила Гордина у самого выхода и, набравшись храбрости, спросила:
– Когда вы, Йосл, примерно, вернетесь с богослужения?
– Часа через два. А почему вы, Хене, спрашиваете?
– Можете быть спокойны. К тому времени ваша яичница и мои солёные огурчики будут вас ждать на тарелочке с золотой каёмочкой. В субботу вы обычно из скольких яиц её жарите? Из трех или четырех?
– Так дело не пойдет. Жарку яичницы я никому никогда не доверял и не доверяю. Даже моей Нехаме. Я жарю сам, – улыбнулся Гордин и взялся за дверную ручку.
– Куда вы так торопитесь? Там еще калитка закрыта. Туда еще даже Бог к молитве не подоспел… А может, вы там какую-нибудь Хаечку в старомодной шляпке приглядели и назначили ей свидание?