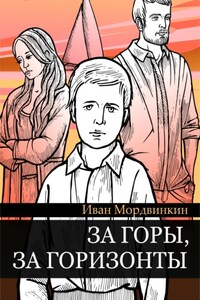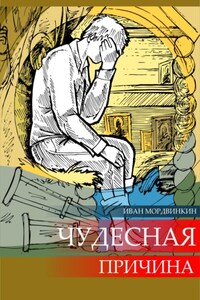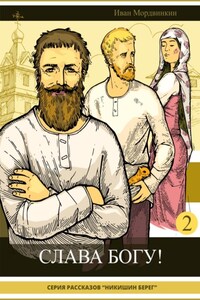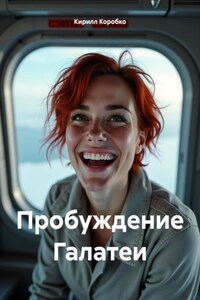Возвращаться было некуда. Но Саня вернулся.
Последние вахты, затяжные, жёсткие и даже изнурительные, в обмен на терпение сгустились в волнительную цифру на балансе карты. И хотя бы в этом он был спокоен.
Он стащил рюкзак. Упираясь носками, сдавил с ног ботинки. Замер, прислушался и оглядел переднюю внимательнее. Потом впихнул ноги в холодные тапочки и, шурша ими по дорожке, бесшумно прошёл дальше, молча послушал тишину, дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку.
Пустой шкаф, пустые полки, плотно задёрнутые шторы и пыль, как в пустыне.
Дом нежилой.
Ушла!
Оксана всегда называла свою «свадебную» квартиру «наш дом», на что Саня отмалчивался, глядел в сторону и припоминал намёки её отца.
Этот дом не был его домом. Уходить должен был он, если бы хотел. Но Саня уезжал на длинные вахты.
И ушла она.
Он глянул на пустой святой угол и даже привычно дёрнул рукой, чтобы перекреститься, но передумал. На образнице осталась только икона св. Александра Невского, да и та скосилась. И в полумраке казалось, что благоверный князь смотрит в сторону, будто не желая встретиться глазами со своим тёзкой.
Саня вернулся в прихожую, глянул на полочку для записок, какие они оставляли иной раз друг для друга. В полумраке тёмная полка казалась бездонной чёрной пустотой.
Он подошёл к ней вплотную, провёл рукой по тёмной полировке, посмотрел на свои пальцы. Потом сел на хлипкий обувной стеллажик – теперь можно было, и уставился под ноги.
На полу он приметил её серёжку – маленькую, золотую, с алмазиком.
Саня нагнулся, поднял и закрутил её к свету. Но в полумраке алмаз не играл бликами, а без пары серьга вообще казалась бессмысленной. Как половинка разорванной надвое книги, которую уже не прочитать.
Он поднялся, положил серёжку на полку для записок и замер, обдумывая дальнейшие шаги. Начиная от самых простых и буквальных.
Потом с раздражением мотнул головой, плюнул на палец с обручальным кольцом, и, вращая его влево-вправо с остервенелым усердием, долго стаскивал.
Наконец, звякнув печально, колечко упало к серёжке на чёрную полировку. В бездну.
Саня присел на пуфик возле обувной полки, расшнуровал горловины ботинок, сунул в них ноги. Потом, посидев без движения несколько вздохов, он завязал шнурки тугими узлами, встал и ещё разок оглядел прихожую, чтобы запомнить дух своего дома.
Но духа не почуял.
И вышел вон.
К концу дня он уже покинул шумный перрон вокзала «Ростов-Главный», устроился на нижней полке и, дожидаясь отправления поезда, не к месту застоявшегося, погрузился в надоедливые мысли.
Теперь ему оставалось только вспоминать.
***
Оксанка вцепилась в Саню, как огонёк в свечку. И Саня загорелся.
И с той поры возле сердца, в кармане кожаной куртки, он таскал блокнотик с её стишками, а не подаренный батей швейцарский ножичек.
Саня не мог без неё.
Как ночь томится в ожидании первых лучей, или день устало клонится к закату, так он терзался долгие часы, пока жил без Оксаны. Своей Оксютки. Чем сам себя смешил в те времена, потому что не пристало взрослому двадцатипятилетнему мужику сохнуть по девчонке. Тем более, что он старше был на целых шесть. И опытнее на шесть вечностей.
Когда-то, ещё в двадцать, он даже чуть не женился. Тогда, закончив после армии курсы стропальщиков, Санёк ездил на заработки в далёкий Сургут, на севера. Но ему повезло, он вовремя спохватился и убежал из-под властной, хотя и красиво ухоженной руки опытной невесты. Женщина ему попалась постарше и самостоятельная вполне.
Но Санёк не из тех, кто согласился бы семенить гуськом за «мамкой».
Оксанка была другой.
Он увидел её на празднике в честь дня города. Она играла на саксофоне с большой сцены, установленной на Театральной площади – главной площади Ростова-на-Дону, мелодию «Если б не было тебя».
Он влюбился… просто вдохнув. Будто против воли провалившись и утонув в этой мелодии, заполнившей воздух. И через неё соединился с девчонкой, поющей её через саксофон. Наверное, это произошло даже не мгновенно, а как-то заранее, в течение всей жизни до этого часа.
И он тогда не знал, что именно полюбил: свой Ростов, этот яркий осенний праздник, саксофон, тонкую девушку в блестящем платьице или саму жизнь.
Ей, конечно, как на Санин вкус, природа даровала редкую красоту. Кареглазая, глядящая пристально, но без оценки, вся гибкая, как виноградная лоза, она притягивала его воздушностью, будто не двигала руками в пустоте, как все люди, а ласково прикасалась к реальности. Её длинные, ровные волосы вздрагивали и скользили по ушам, затрагивая крошечные серёжки. И уже потом, когда Саня познакомился с ней, он почему-то часто обращал внимание на маленькую пульсирующую венку у неё шее. Или, например, на складочки кожи на «коленках» её пальцев. Они казались ему похожими на улыбочки.
И это тяготение к бесконечному рассматриванию Оксанки казалось ему его собственной тайной странностью.
Он невольно сравнивал Оксану с той неудавшейся невестой, на которой чуть не женился. И видел, что Оксютка моды не чует, в лаках для ногтей не разбирается, а образ её пылает не хитрым любопытством, ищущим для себя, а горячим светом, от которого его лицо как бы вспыхивало изнутри. Будто вот-вот произойдёт что-то сказочное. Такое чувство было ему знакомо только в раннем детстве, когда родители ещё не пили, и он просыпался ранним утром в свой день рождения в ожидании чего-то запредельного.
Когда они стали встречаться, и Саня провожал её до двери, Оксанка не отпускала его подолгу, хватая за руки, чтобы запомнить тепло его пальцев. И потом, вернувшись в квартиру, даже не обнимала маму, чтобы не разжимать ладошку.
И так, почти случайно и внезапно они слились в одного человека, как два разнородных течения и смешались водами своих душ в единый живой водоворот.
Он верил ей.
За нею пошёл в церковь.
Там Оксана пела на клиросе, которым руководила её мать, и Саня часами стоял среди молящихся, и прислушивался к ровному хору, стараясь воображением выхватить из общего гудения молитв её сильный грудной голос. И, если она пела или читала сольно, он незаметно косился на молящихся, ожидая увидеть в их глазах или согбенных фигурах отблески восторга, которым пылал сам. И даже неосознанно сжимал увесистые кулачища на случай, если кому-нибудь её пение не понравится.
Но всем нравилось.
Она удивила его.
Лёгкой и проницательной, ей будто кто-то нарочно накрутил настройки чувствительности до предела. И она ясно улавливала такие незаметные полутона в окружающем, которых Саня не видел никогда. Даже если всматривался в упор и с напряжением. Вместе с тем ей чудом удавалось избегать чрезмерной хрупкости, какая всегда мучает чувствительных людей. И вокруг неё всё наполнялось изящностью и восхищением.