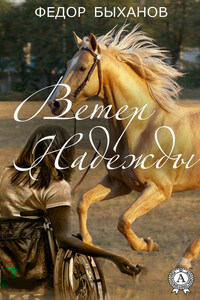У Петера умер дедушка. Во вторник, осенью. Дворовый пес по кличке Жук, черный как смоль, беспокойно кружил по двору хутора, подвывая, припадал носом к земле, словно вынюхивая чьи-то чужие тени. И всё, вроде бы, было как всегда. В смысле обязательного солнца у кромки неба, укромной возни мышей за стеной и непременного осеннего ветра, выдувающего вчерашние следы с холмов. Но, неотступное и навязчивое, зудело понимание, что отныне многое будет иначе.
У самого Петера были сложные взаимоотношения со смертью.
Он её не чувствовал. Потому и предпочитал страху – равнодушие. К тому же он, пусть смутно, но осознавал, что существуют вещи столь же неотвратимые, но куда как более страшные. Слепота, например, как у соседского мальчика Тьёрда. Или война – как причинение смерти многим… о войне и обо всем на свете рассказывал дедушка. В последнее время особенно часто. Рассказы случались сбивчивые, путанные, но, странным образом, оттого еще более живые.
Петер очень любил дедушку. Что не удивительно, ведь тот был единственным оставшимся взрослым, которого Петер действительно знал. Конечно же, есть еще учитель Хенрик, чем-то вечно недовольный и на что-то обязательно обиженный; пастор Храфн, с которым Петер предпочитал встречаться по возможности редко, желательно – только на исповеди; многочисленные соседи, проживающие собственные жизни и мечты на прилегающих улицах и подворьях. Так близко, и в то же время так далеко – не докричаться, – что даже сами помыслы о том, чтобы узнать кого-либо поближе казались пустой тратой времени.
Петер сидел у изголовья дедовой кровати, основательной, сработанной, что называется, на века, смотрел на неподвижное с желтоватой и тонкой кожей лицо покойного. И изо всех сил пытался заплакать. Слёз не было. Как не было и дедушки. Было отсутствие. Чье-то чужое тело. Были частые взрослые; разные, скорые на эмоции лица. Пастор Храфн монотонно бубнил себе под нос. Тётушка Агата – мать Тьёрда – стояла рядом, крепко сжимая своей похожей на птичью лапку рукой плечо Петера, увещевая его не держать боль в себе, дать ей выход в слезах. Оплакать деда.
Петер же просто молчал и слушал, слушал. Слушал, как старый Жук, не находя себе места, мечется по двору, вторит завыванию ветра; слушал, как скорее по привычке бранится с лошадью сосед – старый Йохан; как скрипят едва слышимые в общем потоке повседневного шума доски сгружаемого с катафалка гроба.
Незаметные, сплетались кружева времени, спешили к скорым потокам реки, цеплялись, походя, за первые оборванные осенью с деревьев сада листья. Также и мысли Петера. Неслись вскачь, наседали друг на дружку, толкаясь локтями и переругиваясь… в конце концов, всё смешалось в памяти: выцветшие цвета, старые руки тётушки Агаты, жар собственных ладоней Петера, громоздкие звуки, все обязательные сочувственные фразы. А после исчезло и это. Остался лишь ослепительный солнечный свет. И, отчего-то – предчувствие первого снега.
Петер любил раннюю зиму. Пепельный снежный наст, колючий и ломкий, скрывающий задремавшую до весны траву на холмах; свежесть воздуха, пахнущего океаном. Петер любил саму влюбленность в зиму; ему нравилось, покончив с уроками и обязательной помощью по дому, без дела бродить по деревенским улицам, взбираться на холмы, по облакам наблюдать движение ветра – редкие минуты покоя. Ему нравились зимние ботинки, пальто нараспашку, колючие шарфы, безразмерные шапки. Конечно же, пальто у Петера не было. Да и шарфу цветов явно не доставало. И сочетания эти, по большей части, были не более чем выдумкой, навеянной воспоминанием вычитанной где-то истории о большом городе и городских детях.
Зато ветер и холмы с облаками были реальны, а в толкотне волн угадывались острова, необитаемые и грозные, куда ясными весенними днями Петер с дедушкой плавали на лодке.
Петер поёрзал, поудобнее устраиваясь на жестком табурете; резко закололо затекшую ногу – словно тысячи мельчайших иголок вошли в ступню.
Да, он научился не замечать бесконечной череды похожих друг на друга дней – гнетуще серых, застывших в нигде, – для себя сохраняя Событие. Как и сегодня. Оставалось только определиться с цветом.
Где-то за спиной, в глубине комнаты, едва слышно кашлянул Храфн; вновь заплакала тётушка Агата; затопотали грязные башмаки по доскам пола.
Значит, пора.
Всё началось с кошки. Петер нашел её у поленницы – маленький пушистый комочек, уютно посапывающий в надёжном укрытии свежих, всё ещё хранивших запах хвои чурок. Петер окрестил кошку Хельгой, отнёс в чулан, собственноручно приспособленный для нехитрых мальчишеских нужд, напоил молоком, вычесал колтуны шерсти. Приютил тепло в сердце и, счастливый, прожил очередную зиму. Тогда ещё была жива мама, а дедушка регулярно выходил на промысел.
Петер никогда не видел своего отца. Что придавало известную свободу в трактовке его истории. В семь Петер решил сохранить для себя две её версии.
Согласно первой, отца у него просто никогда и не было. Чему с самого начала противоречило существование деда – папиного папы; и что неминуемо отрицало его самого.
Согласно второй, которую с известной долей отчаяния стремилась внушить ему мать при жизни, отец был путешественником. И все эти годы провёл в скитаниях вдали не только от родного очага, но и, возможно, что Земли вообще. Петер так и не смог заставить себя до конца поверить маминым сказкам. Однако чувствовалась в них и некоторая романтическая убежденность. В чём-то близкая детской вере в существование Рождественского Деда. Это была удобная версия. И для матери, и для сына. Это был их секретный мир, недоступный посторонним. История со множеством вариаций сюжета. Матери вместе с Петером почти удалось заполнить все белые пятна. Но время шло, и казавшаяся побежденной пустота подступалась снова. К тому роковому августу восьмого года жизни Петера, когда мать забрали в больницу, от истории остались названия звёзд и созвездий. Долгие же месяцы болезни пережила лишь Большая Медведица.
Но началось всё именно с кошки.
Хельгу загрыз Кнут. Это случилось ровно два месяца спустя после встречи у старой поленницы, и за три недели до дня рождения Петера. Хельга была неглупой кошкой. Только слегка невнимательной. Кнуту же тогда едва исполнился год; его даже ни разу еще не брали на охоту. Так и мотался он по двору, бестолковым своим лаем распугивая кур.
Всему виною был пёсий задор и так и не изжитая вековая межвидовая вражда. Плюс – привычка Хельги спать в не самых подходящих для сна местах. Можно сказать, что смерть кошки была быстрой, но это послужило бы слабым утешением. Впрочем, и утешаться кроме Петера было некому.