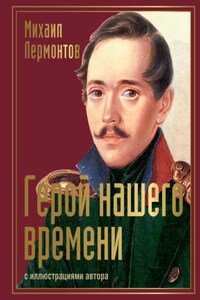Все с ума посходивши. Все с ума посходивши. Все с ума посходивши. Все посходивши с ума. Проба пера.
Рыба теперь гниет не только с головы, но и с хвоста.
Все больше вампиров, все меньше доноров, нехватка крови.
Любящие люди сосут нас больше, чем остальные. За это и любят.
Прежде Россия славилась пушниной, лесом и бабами. Теперь бабы стали деловые, волевые. Прежде, когда становилось постыло, все могла заменить одна женщина. Теперь эту одну найти невозможно. Может быть, потому, что глаз пригляделся, чувства притупились, бдительность ослабла. Если мелькнет такая, ты ее и заметить не успеешь.
Да и мужики. Тех, кто не мог жениться (война), сменили те, кто не хочет жениться. Еще чего, взваливать на себя? Хватит и без того.
У интеллигенции вместо идей и страстей – сплетни. Называется информация.
В искусстве размножились дегустаторы. Этак, язычком: ц… ц… – устарело это, сейчас нужно вот что… Прежде сверху указывали, каким и только каким должно быть искусство. Теперь прогрессивные дегустаторы решают, каким и только каким оно должно быть. Одноместный трамвай.
Сейчас, например, надо, чтобы было страшно. В черных машинах, в бежевых дубленках приезжают посмотреть спектакль из жизни коммунальных квартир, из жизни насекомых.
Правда, война была все же страшней, чем даже такой театр.
Время – само время насколько стало умней! Так высветило нашу глупость. И в мыслях и в разговорах стало возможно все. Почти. Только понимаем мы теперь еще больше, чем…
Для нас, учеников тридцать третьей школы роно на Первой Мещанской, предвоенные годы были безоблачны. Было уже ясно, что мировая революция не за горами, хотя немного и удивляло, что это там рабочий класс медлит.
Как хорошо однажды понять, что ты – человек прошлого. Знакомые думают, что они знают тебя, а на самом деле они помнят тебя. Женщины прошлого красивы, деревья прошлого густы. Переулки прошлого, праздники прошлого, дожди прошлого, книжки прошлого… Стать человеком прошлого в старости – поздно: когда ничего нет в настоящем, то и прошлое не поможет. Но сейчас, когда можно еще жить настоящим, хорошо бы не зависеть от него. Да и от прошлого можно не зависеть. Каким я его вспомню, таким оно и вспомнится.
Когда мы влюблялись, не казалось ли нам, что это – на всю жизнь? Сколько раз мы ошибались в этом. Когда мы переходили на новую работу, не радовались ли мы обилию новых людей, новой жизни, не похожей на прежнюю? А когда мы привыкали к этим людям, как разочаровывались. Сначала в этом человеке, затем в том, как стали безразличны многие, а другие остались такими же незнакомыми, как прежде. И только несколько человек, а когда мы немолоды – один или двое, оставались нам друзьями. Так мало…
Сын спросил: «У тебя так бывает? Вот ты знаешь, впереди будет что-то хорошее. А что хорошее – никак не вспомнить. Но что-то хорошее будет». Было у меня так, было. Очень давно. Теперь же наоборот: знаю, что впереди что-то плохое. А что именно, точно не знаю.
Началось с того, что однажды утром, когда, как обычно, одолевали черные мысли, я, чтобы снять напряжение, принял рюмашку-другую. Что неожиданно толкнуло меня к пишущей машинке. И вот, стал выстукивать отдельные соображения и воспоминания. С тех пор и пишу это преимущественно в нетрезвом состоянии.
Дело в том, что в состоянии трезвом я то и дело поступаю глупо и пишу так, что потом стыдно, но уже поздно. Правда, как могу, я маскирую эту присущую глупость, усвоив грамотную фразеологию с причастными и деепричастными оборотами и так далее.
Почему
наши войска оказались в Венгрии, а не венгерские у нас?
Почему
наши войска оказались в Чехословакии, а не чехословацкие у нас?
Почему
наши войска оказались в Афганистане, а не афганские у нас?
Почему
наши войска оказались в Эстонии, Латвии, Литве, а не их войска у нас?
Почему
они добровольно присоединились к нам, а не мы к ним?
Как могли уцелеть невидимые нити, привязавшие мое сердце к этой стране?
Когда я попал в госпиталь, на спинку койки был намотан провод с едва слышным радионаушником. Превозмогая свое плачевное состояние, я прижимал его к уху и слушал нечто, напоминавшее музыку. Я не слышал ее с начала войны, забыл, что она существует. Звуки музыкальных инструментов еле-еле складывались в мелодию. Но она была, где-то там существовала!
Теперь музыка со всех сторон – по телевидению, по радио, – не слышу, нет ее нигде.
Раньше падал духом с высоких мест. Взбирался на них долго, а падал легко и ненадолго. Теперь же особенно высоко не взбираюсь. К чему? Все равно падать. И сами-то по себе эти вершины, откуда я теперь падаю духом, прежде служили теми местами, куда я падал духом сверху.
Из-за чего только не мучился! Из-за того, что обидел – нечаянно, и не думал. Из-за того, что опоздал, из-за того, что поступил глупо. Из-за женщин, порядочных и непорядочных, из-за порядочных больше. Из-за друзей, близких и не очень. Из-за близких больше. Никогда не мучился только из-за одного: из-за того, что мучаюсь понапрасну. А жизнь между тем идет, проходит…
Еще один день рождения. В детстве поздравляли старшие, и твоя жизнь становилась для тебя значительной, праздничной… Старших нет. А поздравления младших не поднимают тебя, как прежде, в собственных глазах…
…Небезопасное тяготение к спиртному у меня, как и у многих ровесников, отчасти появилось еще на фронте, с так называемых фронтовых ста грамм, тем более что, как правило, их доставляли нам на то количество личного состава, которое было до потерь, так что могло получиться вплоть до пятисот на рядового. Но теперь мой знакомый, бывший алкоголик, сказал, что я уже не сопьюсь, потому что не позволят возраст и состояние организма, он будет сопротивляться.
Беда в том, что я, когда не выпью, – не человек. То есть вялый, скованный, малоинтересный. Если же немного приму, то становлюсь раскованным, с чувством юмора и любовью к рядом сидящей женщине. Тогда мне и со случайными людьми хорошо и им со мной хорошо.
Мы дети стольких грехов, что надо научиться хоть что-то прощать самим себе.
Всему придумывается хорошее объяснение. Только ненадолго. Придумалось, успокоило и – исчезло.
Понял слово испытание. Это значит: послано испытание – совершу грех или нет.
Не могу объяснить, да не могу уже и почувствовать, как я еще в школе полюбил театр. Теперь уже мало кто любит. А это было еще тогда, когда: как снег был бел, как реки чисты, как небо в этих реках сине, валютные специалисты носили доллары в торгсины, а по небу аэропланы, а по земле автомобили, а пионеры в барабаны, а диверсантов посадили, а ввысь строительные краны, а вглубь большие котлованы, а мы – чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор, нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор.