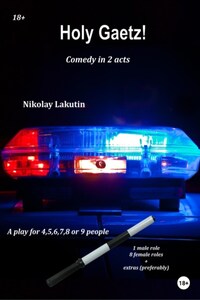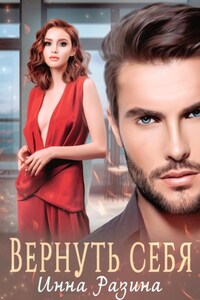Один из многих парадоксов демократии заключается в том, что она нежизнеспособна без аристократии, готовой жертвовать нуждами сегодняшнего дня ради того, что понадобится лишь будущим поколениям (а может быть, и тогда понадобится лишь немногим, да и то в качестве всего лишь прекрасного, всего лишь величественного, не приносящего ощутимой пользы).
Жизнеспособно ли общество, состоящее сплошь из аристократов, готовых жертвовать полезным во имя отдаленного или прекрасного, – вопрос сложный, хотя и несколько академический: законченный аристократ всегда редкость, а уж в наше время особенно. Но то, что без аристократии у любого общества исчезнут всякие мотивы осуществлять какую-то более или менее длительную стратегию, плоды которой будут пожинать другие поколения, – это представляется довольно очевидным. Отдаленного или прекрасного… Почему «или», а не «и»? Кто же станет жертвовать во имя отдаленного и безобразного, отдаленного и скучного? Но по-настоящему прекрасной бывает только греза, реальность всегда слишком противоречива, пестра, контрастна, чтобы воодушевлять; любить до самозабвения человек способен лишь собственные фантомы или, по крайней мере, реальные предметы, преображенные и украшенные фантазией (чаще, пожалуй, чужой, если речь идет о социальной реальности). Дар ценить плоды фантазии выше материальных фактов и делает человека человеком: только человек способен жертвовать во имя того, чего нет, что существует лишь в его воображении. Собственно, это и есть определение аристократизма – готовность жертвовать наглядным во имя незримого. И без толики служения незримому невозможно даже самое демократичное и прагматичное общество.
Общество – это и семья, и промышленная корпорация, и нация, и человечество. Но осуществлять сколько-нибудь продолжительные и ощутимые в историческом масштабе программы совместной деятельности во имя будущего пока что могут почти одни только нации (имеются в виду так называемые политические нации, включающие в себя всех граждан одного государства), другие сообщества почти не располагают наследственными институтами, осуществляющими историческую преемственность (у промышленных корпораций, кроме того, и с бескорыстием чаще всего бывает слабовато – не для того они создаются). Поэтому целенаправленную деятельность исторического масштаба с древних времен и по нынешнее обычно осуществляет национальная аристократия. (Надеюсь, в свете вышеизложенного излишне разъяснять, что национальная аристократия образуется не по крови, а по готовности жертвовать близким и ощутимым во имя отдаленного и незримого.) Но поскольку всякая коллективная наследуемая деятельность вдохновляется коллективными наследуемыми фантомами, то и деятельность национальной аристократии должна неизбежно вдохновляться фантомами главным образом не личными и не общечеловеческими, а национальными. Иначе говоря, национальной аристократии (а и никакой гражданин невозможен без доли аристократизма) необходим идеализированный образ своей страны, страны, не просто обеспечивающей комфорт и безопасность, но трогательной и эстетически привлекательной, – без этой поэтической архаики, по-видимому, не может обойтись ни одно самое демократическое и либеральное государство: государства стоят не столько на корысти, сколько на поэзии. «Нацию создает общий запас воодушевляющего вранья», – написал я когда-то в «Исповеди еврея», и при всей намеренной заостренности этой формулы сегодня я не вижу в ней ничего унизительного: всякая любовь зиждется на идеализации, то есть на замалчиваниях, приукрашиваниях и даже прямых выдумках. Попытка построить жизнь исключительно на правде обернулась бы злейшей антиутопией. И одна из самых трудноразрешимых проблем сегодняшней России – отсутствие сколько-нибудь общепризнанного воодушевляющего ее образа, коллективной грезы, которая не была бы опасна для нее самой и окружающего мира. Грезы, которая порождала бы гордость, пускай скорбную гордость, за свою страну, порождала бы готовность переносить какие-то тяготы ради ее будущего и не порождала бы внешнюю агрессию и внутренний деспотизм, – эти требования к «национальной идее» в российской истории столь часто (вплоть до нынешней минуты) противоречили друг другу, что временами их совмещение представляется столь же неосуществимым, как мечта построить круглый треугольник. Кроме того, взыскуемый образ не должен слишком уж явно противоречить известным фактам, а поскольку в разных социальных группах считаются твердо установленными факты не просто различные, а иной раз и прямо противоположные… Речь может идти скорее о создании внутренне противоречивой системы, в которой каждая социальная группа могла бы найти чарующий ее аспект, к чужим аспектам («иллюзиям») относясь хотя бы без вражды, а еще лучше – с отеческим снисхождением. Построение такой системы – дело не одного года и не одного человека, но, во всяком случае, это работа скорее для художников, чем для идеологов; это нашему брату законы не писаны, это мы свободны от обязанности непременно сводить концы с концами. Но если в истории страны прежде всего бросаются в глаза то великие победы, то великие поражения (все равно отзывающиеся во всемирной истории), возникает соблазн и дальше двигаться путем наибольшей простоты – путем исторической инерции: то выбиваться чуть ли не в мировые лидеры, то скатываться на грань исчезновения – тут же, впрочем, начиная грезить о новом витке. Чтобы выбраться из этой опасной спирали – можно однажды достичь таких высот, падение с которых окажется уже несовместимым с жизнью, – великим народам иной раз можно поучиться и у народов малых (я не вкладываю в слова «малый народ» того сакраментального значения, которое им придал И. Шафаревич). Малым народам неизмеримо легче выйти из положения, в которое они никогда не имели ни соблазна, ни возможности попасть. Финны для меня – самый загадочный народ в Европе (я бы даже сказал: в мире, если бы мое европоцентрическое невежество не обязывало меня держаться скромнее). Не имея ни собственного государства, ни изолирующей религии или образа жизни, ни воображаемой всемирно-исторической миссии, без всяких видимых истерик сосредоточиваться, воодушевляться смесью вымыслов и правды, крепнуть, становиться на ноги, выстаивать, обустраиваться – во имя чего?.. В чем они видят свое величие (невозможное без примеси ужаса)?.. Века под властью шведов, неудачные восстания, переход под власть российской короны – снова не по собственному решению, а по договору между шведами и русскими, – независимость, опять-таки дарованная Лениным в явной надежде вскорости забрать ее обратно, одну или вдвоем с Парижем (не тут-то, правда, было), гражданская война, которую, кажется, только советская власть сумела возвести из величайшего бедствия в предмет национальной гордости, и наконец-то зимняя война с Советским Союзом – едва ли не первая за бог знает сколько веков страница канонически (в привычном нам смысле) героическая: вооруженная борьба с внешним агрессором. Борьба, кто спорит, геройская, однако все же проигранная, приведшая к потере десятой части и без того отнюдь не обширной территории. Затем компрометирующий союз с Гитлером… Оно, конечно, куда было деваться, и все-таки союз с нацизмом есть союз с нацизмом – обстоятельство, гораздо более взывающее к замалчиванию, чем к романтизации.