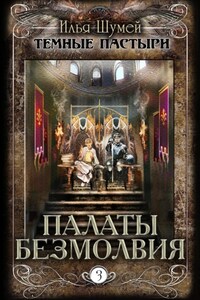Длинный, темный коридор старой московской квартиры. Справа длинный, громоздкий шкаф, заполненный всякими ненужными и давно забытыми вещами. В активном использовании только два ящика и одна полка, битком заполненная шапками, шарфами и перчатками всех сортов и родов. Общение с этой полкой, как правило, приводит общающихся к опозданию. Слева по коридору, напротив этого шкафа приземистый пуфик со смешной кнопкой-пуговицей, почему-то расположенной не посередине, а чуть смещено. От этого всегда кажется, что он ухмыляется. Напротив пуфика входная мощная дверь, которая любит захлопываться в любых обстоятельствах с жутким грохотом. Его мама так всегда и говорила: «Ухожу, «громыхало» закрой за мной». Так и повелось с тех пор, дверью ее никто не называет. Справа от «громыхало» лежит половик, всегда заставленный обувью. Ее там в любое время года много. И даже тогда, когда дома никого нет. А вот в самом конце этого длиннющего коридора, в самом торце, висит огромное прямоугольное зеркало. Оно уже старое, но сохранившееся в приличном состоянии, только по углам есть темные, как будто заштрихованные черным карандашом, небольшие пятна.
Из всех домочадцев остался он один. Так уж устроена жизнь: люди приходят в этот мир и уходят. По этому закону ушла сначала бабушка, папа, спустя годы, мама, потом жена. Нет, и дети у него конечно же были. Но дети выросли и практически растворились в огромном мире. Теперь вся связь с ними, спасибо технике, по телефону, по скайпу, да и то редко. Деловой и жесткий ветер своими порывами не предоставляет возможности удержаться долго на одном месте. Странно, что его этот ветер практически совсем не может сдвинуть с места. Он часто подолгу задерживается в этом коридоре, то стоит, прижавшись к шкафу, то замирает в дверном проеме комнат, выходящих в коридор. А иногда сидит на многолетнем пуфике и всматривается в глаза зеркала, повидавшего очень много за свою долгую жизнь. Он давно уже заметил, а потом и понял, что зеркало это хранит все отраженные образы и ситуации. И вот теперь оно щедро делится со своим собратом по одиночеству накопленными сокровищами.
Из комнаты с плачем выскакивает толстощекий карапуз и на кривых и косолапых ногах еще неловко бежит прямо к зеркалу. Упершись в зеркало, неожиданно замирает, перестает плакать и с интересом принимается рассматривать себя. Горя, как и не бывало, но следы его отпечатались на зеркале, отпечатки маленьких растопыренных пальчиков, круглый след от мокрого носа и две дорожки из слез. Он начинает с интересом изучать эту замысловатую картинку, а потом с удовольствием размазывает по стеклу следы слез. Его настроение теперь прекрасное, новая игра явно забавляет. Вот и слезы пригодились! Теперь он всегда со слезами будет бегать именно к зеркалу. Отличная игра, а повод поплакать всегда находится.
В дверном проеме стоит мама, молодая, темноволосая, совсем молодая. Она молча наблюдает за своим малышом. Улыбка умиления и счастья плавает по ее губам и глазам.
Когда открывается входная дверь, все та же «громыхало», перекрывает все другие отражения в зеркале. А потом, как и положено, с грохотом закрывается, и в зеркале вновь оживает жизнь. Странное сочетание: жизнь замирает и жизнь оживает. Хотя, нет ничего в этом странного, мы сами и есть эта жизнь. У половика топчется бабушка, вернее Маба, так ее все зовут и даже зять, она выполняет одновременно две роли в доме: она и мама мамина и бабушка малыша. Маба, переодев обувь, ставит сумку с продуктами на пуфик и снимает плащ. Она тоже еще совсем молодая, бодрая, подтянутая. Раздевшись, Маба несет сумку на кухню, а по дороге внимательно смотрит в зеркало. Она очень серьезно относится к жизни, ко всему происходящему и даже к своему отражению в зеркале.
Громкий голос Мабы разносится по квартире: «Филя, иди обедать!». Он, конечно же, слышит, и есть он уже давно хочет, он и бабушку тоже, конечно, любит, но торопиться все равно не будет. Таков уж этот подростковый возраст, делать хотя бы чуть-чуть не так, как от тебя ожидают. Выждав положенное время, он медленно, вразвалочку вылезает из комнаты и направляется на кухню. Проходя мимо зеркала, он бросает недовольный взгляд исподлобья на прыщи, надежно поселившиеся на его лбу и носу. Зрелище ему кажется отвратительным. Он втягивает голову в плечи, пытаясь защитить себя от посторонних взглядов. Жест этот совершенно автоматический и интуитивный, хотя в коридоре никого и нет кроме него.
Теперь он, сидя на пуфике и глядя на свое зеркало, понимает, сколь прекрасно было то прыщавое время, когда вся жизнь еще впереди.
Уже давно нет на свете Мабы. Но зеркало помнит тот последний день. Уходя в свой последний путь, она, уже одетая в пальто, уже попрощавшись и поцеловав любимого внука, как-то задорно и очень по-женски посмотрелась в зеркало, грустно провожающее ее, и улыбнулась то ли себе, то ли судьбе сразу всеми искристыми морщинками вокруг глаз. «Ты будто на свидание собралась, а не в больницу на операцию.»,– сказал заносчивый подросток, еще не понимающий хрупкости этого расставания. Но Маба, хоть и была всегда женщиной строгой и серьезно воспринимающей жизнь, обладала прекрасным чувством юмора. Она хитро взглянула на своего внука-подростка и добавила: «Так я и отправляюсь на свидание с мужем.». Так в его памяти и осталась эта ее весело произнесенная фраза, а из зеркала смотрел на него ее лучисто улыбающийся взгляд.
Филипп Палыч встает с пуфика, слегка опираясь о стену. Медленно распрямляет спину и неторопливо идет на кухню. Хочется немного отдохнуть от нахлынувших воспоминаний. Где-то глубоко, под ребрами ощущается тянущая боль, может быть от грустной ностальгии, а может быть и просто от голода. Уже давно было бы пора пообедать. Ничего готовить себе в этот раз не хотелось. Он сварил кофе, достал из морозильника мороженое и, вспомнив молодость, сел «кайфовать». Как же ему хочется оказаться в компании своей семьи. Как же быстро повзрослели дочери. Интересно, собирались бы они сейчас здесь семьями, так же бы шумели и смеялись, как это бывало раньше? Теперь этого ему, наверное, и не узнать. Разметало их по свету непростое время, в которое они все попали, как в ловушку. Звонят, зовут к себе, говорят, что скучают. А он все думает и никак не может решиться.
Помыв посуду, Филипп Палыч вдруг вспомнил, что обещал дочкам обязательно по возможности каждый день гулять. Он подошел к окну, посмотрел на муть серого неба, затем перевел взгляд на дорогу, сухо. Ну, значит, можно выйти.
Прогулка удалась, тяжелые мысли выветрились, на душе полегчало. Уже довольно бодрой походкой он вернулся домой. И дом, как всегда, преданно его ждал. Громыхало распахнулась и жилище простерло к нему свои теплые объятия. Здесь было знакомо все, каждый скрип половицы, запах, все шероховатости стен и дверей. Дело шло к вечеру. В сумерки зеркало блекло. Филипп Палыч включил свет. Зеркало тут же отозвалось, поймало луч и, преломив его направило прямо в его комнату, что располагалась справа от зеркала, почти напротив кухни. Эту комнату он занимал, будучи школьником и студентом. Когда женился, привел туда свою жену. Впоследствии ее отдали дочкам. А теперь, оставшись в этой огромной для него одного квартире, он снова перебрался в эту комнату. Ему казалось, что в ней он будет ближе ко всем своим любимым, от которых его хладнокровно оторвала судьба. Старик разделся и подошел к своей комнате. Оперевшись о косяк комнатной двери, он по привычке бросил взгляд к зеркалу. В юности он любил так стоять и наблюдать в зеркале за тем, что происходило в коридоре. Так он чувствовал себя осведомленным, но свободным, не связанным с тем, что там происходило. Вот и сейчас, стоя именно на том месте, он вдруг в зеркале увидел мать, медленно сползающую вниз по косяку двери комнаты, находящейся прямо напротив зеркала. Оцепенев, как и тогда, давно в юности, он увидел ее маленькую, сложившуюся в трогательный комочек, с ладонями, обхватившими голову. Из-за густой копны волос, заслонившей лицо, сложенной позы она напоминала какого-то сказочного лесного гнома. Старику даже жарко стало от нахлынувших воспоминаний. Филипп Палыч вошел в свою комнату и в какой-то растерянности присел на диван.