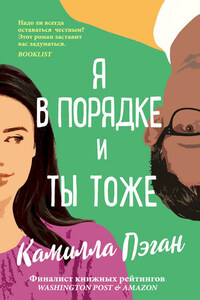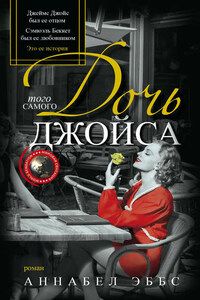Все должно было свестись к обычному «Есть, молиться, умереть», но, честное слово, я не испорчу игру, если сразу скажу: все было совсем не так. Взять хотя бы мой диагноз: доктор Сандерс даже не смог себя заставить произнести это слово.
– Боюсь, она злокачественная, – сказал он, не вставая из-за стола.
– Злокачественная? – тупо переспросила я. День выдался нелегкий, и я с трудом уговорила босса отпустить меня с работы пораньше, хотя позвонившая мне медсестра сказала, что мне необходимо прийти к доктору Сандерсу именно сегодня.
– Раковая, – сказал он, и его тонкие губы стали почти совсем невидимы.
– То есть, вы говорите, что у меня рак? – спросила я, желая, чтобы он наконец выразился ясно – ведь не это же, в самом деле, он имел в виду? Во всяком случае, перед тем как вырезать из моего живота опухоль размером с мяч для гольфа, он говорил, что это просто жировик. А операция – так, для профилактики.
– Мгм. Боюсь, что да. – Он опасливо поглядывал в бумажку, которую держал в руке, словно речь не шла о жизни и смерти.
– Не… не понимаю, – сказала я.
– Элизабет, – произнес он, наклоняясь, чтобы коснуться моей руки, которую я тут же отдернула, потому что не выношу, когда вторгаются в мое личное пространство, не говоря уж о том, что он с помощью языка тела практически сообщил мне, что я не жилец. – У вас подкожная панникулитоподобная Т-клеточная лимфома. Это исключительно редкая форма рака, и встречается она обычно у людей от тридцати до сорока лет, как вы. Боюсь, она агрессивна. Вам нужно…
Примерно с этого места я перестала слушать, и в моей голове начал прокручиваться молниеносный вариант модели Кюблер-Росс[1]. Отрицание: никто не называет меня Элизабет, меня зовут Либби. Злость: а сам говорил, что опухоль безвредна! Он у меня еще спасибо скажет за то, что платил бешеные деньги за страховку от медицинской халатности. Торг: если я приму участие в марафоне в пользу сирот, больных раком, то не только останусь жива, а буду иметь такой оглушительный успех, что сама Опра[2] будет рекламировать мои мемуары. Я стану основательницей целого движения: пробеги, собирающие средства на лечение, для повышения осведомленности – резиновые повязки на запястьях, бирюзового цвета, который станет национальным цветом этой… как там называется моя опухоль? Депрессия: я не побегу марафон, потому что не умею бегать. Я даже зарядки не делаю, поэтому мой организм и пронизан быстро множащимися болезнетворными спорами. До сорока не дотяну. Принятие: увы, принятие в моем исполнении выглядело точно так же, как депрессия.
Я умру. Как моя мать.
Доктор Сандерс продолжал бормотать, не замечая, что я смотрю сквозь него.
– Значит, химия. Я бы хотел, чтобы вы…
– Нет, – сказала я.
– Что значит «нет»? Элизабет, единственный шанс сохранить жизнь – это постараться подавить болезнь как можно быстрее и эффективнее. Понимаю, что вам известны худшие исходы химиотерапии, но в настоящее время лечение вполне возможно, особенно для лимфом. И позвольте сказать: лучше испытывать трудности, связанные с лечением, чем… не лечиться вообще.
– Я не намерена проходить никаких курсов, – сказала я. – Ни химии, ни облучения, ничего. Сколько я протяну без них?
– Прошу прощения?
– Вам есть за что просить прощение: вы мне огласили смертный приговор. Так сколько я проживу без лечения?
Он выглядел растерянным.
– Я должен провести компьютерную томографию, чтобы понять, нет ли метастазов, но учитывая клеточную активность вашей опухоли… э-э, прогноз будет от шести месяцев до… ну, трудно сказать. Хотя, конечно, бывали и благоприятные случаи…
– Ну ладно, – сказала я, хватая свою сумку со спинки стула. – Я на связи.
– Элизабет! Я бы хотел, чтобы вы сходили на консультацию…
Я вышла, не дослушав до конца, со вкусом холодных металлических монет во рту, будто я уже согласилась на химию и в мою кровь уже начали вливать жидкую отраву. Онкологи, медсестры, радиологи, специалисты по паллиативному лечению: слишком хорошо я знала эту раковую повседневность, и она меня не интересовала. Ни капли. Мой брат-близнец Пол однажды сказал мне, что одно дело – здоровый протест, а совсем другое – страна Либби-Ленд. По его теории люди, чтобы продолжать жить, должны игнорировать реальность, по крайней мере большую ее часть. Иначе все ужасы – детское рабство, войны, пестициды, напиханные в каждый кусок того, что мы кладем себе в рот, знание того, что каждое утро, открыв глаза, ты на день приблизился к смерти, – будут угнетать так, что и с постели не встанешь. «Но в твоем мире, Либби, – говорил Пол, – существуют только котики, радуги и счастливые развязки. Это все очень мило, и, наверное, помогает тебе спокойно спать. Но иногда я за тебя беспокоюсь».
Я бы обиделась, не будь это Пол, который знал меня лучше, чем кто-либо другой – лучше, чем мой муж Том, лучше, может быть, чем я сама. И я тоже знала Пола лучше всех, знала и то, что он сам не в восторге от своей способности предсказывать катастрофы – пусть даже это делало его безотказно функционирующим высоконадежным механизмом, способным предсказать падение рынка и прочие беды. Мы с ним в этом смысле хорошо сочетались.
Поэтому будет не так просто сообщить ему, что, глядя, как мои котики какают по всей радуге, я свернула не туда и со всей дури въехала в глухой тупик.
Ускоренным шагом выходя из кабинета доктора Сандерса и идя к лифту, я поймала себя на том, что думаю о похоронах, что естественно, когда знаешь, что не задержишься в этом мире. За свою жизнь я только однажды была на похоронах и после этого поклялась себе, что больше никогда ни на одни не пойду.
Потому что те единственные были похоронами моей матери.
В возрасте десяти лет мы с Полом стеснялись держаться за руки на людях, поэтому мы притаились в уголке похоронного зала: он уцепился за край моего платья, а я сжимала рукой уголок его курточки. Мы видели, как отец с кем-то здоровался, кому-то кивал. То и дело к нам подходили, гладили по голове в знак сочувствия и спешили дальше, после чего обе стороны испытывали облегчение от сознания выполненного долга. Воздух был полон удушливого химического запаха. Прошла целая вечность, потом еще одна. Наконец кто-то мягко подтолкнул нас к середине зала, где лежало тело нашей матери.
Зал был убран, как маленькая часовня, нам велели сесть в первом ряду рядом с отцом и почти вплотную к гробу. Я помню, что не чувствовала ног, руки и лицо тоже онемели, а уши горели от понимания того, что все сидящие позади изо всех сил стараются, но не могут не пялиться на остатки нашей семьи.