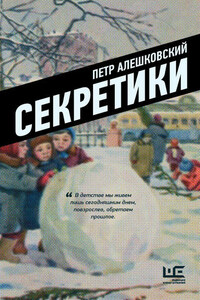Не слишком и много лет тому назад, но и не так чтоб позавчера, когда Старгород изобиловал еще людьми остроумными и веселыми, приятная компания разновозрастных мужчин, изгнанная с улицы крепчайшим морозом, собралась в подсобке овощного магазинчика, служившего до исторического материализма городу кордегардией на главной Питерской дороге. Помещеньице было выделено в складском пространстве перегородкой из толстой ольховой фанеры и имело грубо сколоченный сосновый стол и лавки, крашенные коричневым корабельным суриком. Единственное зарешеченное окошечко было заметено веселым морозным узором. В углу топилась буржуйка, сооруженная из двухсотлитровой бензиновой бочки.
Было тепло, уютно и душно... Пристроившись где кто горазд и поскидав пальто и телогрейки, решили обесточить основное помещение за час до закрытия, затворить магазинную дверь на засов и немного отдохнуть с имеющимся на полках чудным портвейном «три семерки», под крючковатый соленый огурец и бочковую капусту.
Три женщины-продавщицы принимали пятерых измаявшихся от зимней стужи и душевного одиночества кавалеров. Женщины были незамужние. Из них одна – видавшая виды – заведующая Анна Ивановна, другая, что помоложе, лет тридцати, – запевала и анекдотчица Раиса, и совсем еще молоденькая, восемнадцатилетняя, Зойка Хорева с восьмимесячным животом, а потому, собственно, в расчет не идущая.
Некий, правда, старикашка (годам к пятидесяти) – метр с кепкой, или шпенделек, – шустрый, остроумный и веселый, после первого же стаканчика недвусмысленно предложил Зойке дать ему на полкарасика, но опекавшая беременную заведующая цыкнула на охальника по-матерински, и все, оценив юмор, радостно поржали.
Довольно скоро в одном из углов среди ни на что уже иное не годных старичков завязался разговор о политике – двое же счастливцев щегольков помоложе вплотную придвинулись к Анне Ивановне с Раиской.
Общее возлияние под бесценный тост: «Дай бог, не последняя!» – моментально создало тот удивительный настрой, что так любят простые российские люди. Примерно через полчаса на женском конце стола уже тянули «Ой, мороз, мороз». Там, где начались было споры о политике, картинка была иная: самый некрепкий из споривших спал, уткнувши нос в столешницу; второй, выйдя по малой нужде на улицу, загляделся на луну и никак не мог прервать сеанс медитации: покачиваясь и тщетно пытаясь застегнуть уже застегнутую ширинку, он изливал восторг забившейся в конуру магазинной дворняге; шпенделек, как более стойкий и не теряющий подобия надежды, без меры подливая беременной Зойке, упорно и без юмора гундосил: «Зой, а Зой, ты не слоника ждешь?» – «А-а пош-шел ты-а...» – отвечала ему соловая Зойка. Но он вопрошал беспрестанно, с назойливостью хорошо смазанного механизма, так что Зойке пришлось наконец поинтересоваться, при чем же здесь слоник.
– А пощупай у меня между ног, я вот слоника ожидаю, – загоготал довольный шуткой старикашка и почему-то сам полез к Зойке под юбку. Но насладиться поиском не успел – Зойкино платье, да и скамейка под ней, были сильно мокры. – Зоинька, обоссялася? – поинтересовался охальник уже участливо.
Зойка замотала головой – она с трудом понимала, что с ней происходит. Этот же, лапистый, был ей до того противен, что она с размаху махнула рукой по столу, смела стаканы и бутыль на пол и крикнула свое единственное: «А-а пош-шел ты-а...»
Звук бьющегося стекла вмиг вывел Анну Ивановну из состояния нежного умиления, она готова была уже гаркнуть капитанским басом, но что-то в Зойкином лице ей не понравилось.
– Доча, что такое? – подвывая на «ое», осведомилась заведующая.
– Обоссялася... – приставучий шпенделек потянул носом и печально отвесил нижнюю губу.
– Молчи, японский городовой. – Анна Ивановна обошла стол, потрогала зачем-то Зоинькину голову, пошептала в ушко и принялась отпаивать холодной водицей. А уж когда стало понятно, что внизу у ней болит – и не проходит, а, наоборот, только накатывает, сомненья Анны Ивановны рассеялись. «Эксперт хренов, – припечатала она, грозно глянув на приставучего. – Воды сошли».
Все дружно начали собираться.
Провожали Зойку до роддома той же компанией. Идти было недалеко – каких-то четыре квартала, но мороз разогнал хмель, и только в приемном отделении опять накатила сахарная, чисто портвейная тяжесть. Роженицу сдали матерящейся косорукой санитарке и отправились уже на квартиру к Раисе – допивать.
Зойке же крупно не повезло. Роды случились неблагополучные, с ножным предлежанием. На счастье, профессор Рахлин из Ленинграда, наезжающий в Старгород на областные курсы повышения квалификации, задержался в родблоке допоздна и продемонстрировал мастерское исполнение способа Цовьянова. Зойка, окосевшая от портвейна, слабо реагировала на боль. Ей было, вправду сказать, все равно – ребенка она не хотела. Первый раз у нее был выкидыш, во второй, по совету Раиски, она прыгала с сарая на всю ступню и чуть не окочурилась тогда от боли и кровотечения. Теперь доносила по собственной только глупости – переходила последний срок – и потому сначала даже обрадовалась, уловив конец профессоровой лекции, – при тазовых предлежаниях дети зачастую рождаются мертвыми или умирают в первые два-три дня, но, услышав крик младенца, смирилась. Почему-то она была уверена, что этому суждено жить.
Так и случилось. Маленький, синюшный ребенок, рожденный в ночь на четырнадцатое января, выжил и был внесен в церковь на пятый свой день в лютый крещенский мороз Зойкиной матерью, которая и настояла на соблюдении основного православного обряда. Мальчика нарекли в честь бабкиного отца Даниилом, традиционно, как безотцовщине, даровав отчество Иванович.
Детство Даниила Ивановича проходило не то чтоб безмятежно. Сынок был Зойке, в ее восемнадцать развеселых, чистой обузой, и, потому как кончилось молоко – а кончилось оно катастрофически быстро, на третьем месяце, после очередного крутого запоя, – кормить она его принялась крайне бесшабашно: просыпала молочную кухню, порой по пьяни разливала драгоценные миллиграммы по столу, порой просто забывала сунуть в вопящий ротик замурзанную соску. Но мальчуган, несмотря ни на что, рос, привыкал сосать вместо соски большой палец и эту вредную привычку сохранил впоследствии. Маленький жадный ротик потом скривился вдогон за пальцем направо и чуть вниз, глазенки, обычно разглядывающие в таком нежном возрасте ангелов на шевелящихся над колыбелькой воздусях, настороженно блестели, а маленькие оттопыренные ушки уже тогда поразительно четко воспринимали все звуки вокруг, давая команду завопить или затаиться сообразно ситуации. Допустим, если мать приходила уже пьяная и не одна, маленький сначала выдавал отчаянный писк, напоминал о своем существовании, но, почувствовав, что никто им заниматься пока не собирается, выжидающе затихал, принимался обрабатывать палец или вылавливал жеваную марлевую колбаску с хлебом и сосал оттуда какие-то ему одному ведомые кислые жизненные соки. Все же обычно, перед тем как улечься, мать затыкала его галочий зев мерной младенческой бутылочкой, и он наедался на ночь и затихал или, теребя пальчиками пеленку, прислушивался к шорохам на кушетке, к ласковому матерку залетного кавалера; каторги свивальника он не отведал – мать где-то услышала, что свободное пеленание развивает мужскую самостоятельность, и скручивала его туго и крепко, но по грудь.