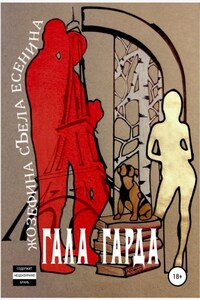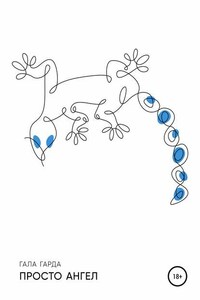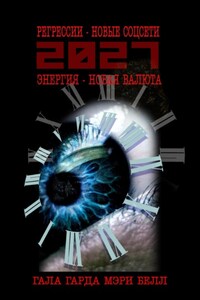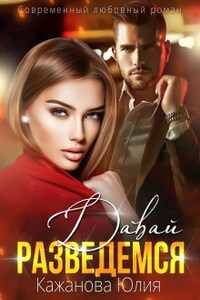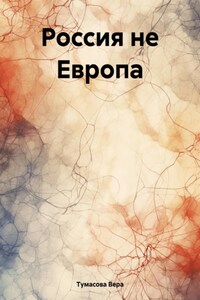Мир Леона Дюбуа – профессора русской литературы в Сорбонне – разлетался осенними листьями по сжатой ниве.
Леон растерянно смотрел на русского Медведя, на ухмыляющуюся Сьюзен, в висках стучал ритм любимых строк: “Отговорила роща золотая … Отговорила…”.
– Как это замуж? – голос предательски дрогнул. Леон взял рюмку и залпом выпил адскую жидкость, которую Медведь ласково называл “моя самогоночка на еловых шишках” –“Ну и дерьмо”.
– Да, замуж, – Сьюзен сидела напротив, взобравшись с ногами на деревянную скамью. Она обмоталась в банную простынь, как греческая гетера в шелковый хитон. Сьюзен выглядела плохо после русской “бания”: блеклая, с неровными вспышками красных пятен.” Гроздья рябины на снегу”.
“Какая же ты страшная, Сьюзен, – хотел сказать Леон, но подлая мысль обожгла, как пар в ненавистной русской “бания” : – Ты же моя! Сьюзен! Ты – моя!”
***
Они познакомились на первом году обучения в университете Сорбонны. Леон страдал: девять месяцев назад родители развелись. Продали большую квартиру, в которой Леон прожил все свое счастливое детство и юность. Мать переехала поближе к сестре – купила маленький домик в Провансе. Леону же досталась мансарда с видом на Дом Инвалидов. Отец, прихватив свою долю, польскую стриптизёршу, уехал, как он говорил “следом за солнцем”.
Леон погрузился в уныние: читал мрачные книги Достоевского и долго смотрел на темные воды Сены под мостом Руаяль.
Но молодость взяла свое. Студенческая рутина и Сьюзен помогли начать новую жизнь.
В мансарду он перевёз почти всю семейную библиотеку, и теперь книги жили повсюду – на диване, на кухонном столе, прятались под кроватью, как кошки грелись на подоконнике и наблюдали за хозяином. Восьмилетняя бульдог Жозефина выбрала жить с Леоном. Она терпела все тяготы существования без лифта. Только грустно вздыхала, сползая с дивана, когда хозяин звал на прогулку.
Жозефина умела слушать. Когда Леон читал ей вслух Бродского, поднимала голову и подвывала тягучим интонациям стихов.
Через год она умерла. Леон плакал неделю. Сьюзен была рядом. Она осталась сначала на несколько дней. Потом её вещи – баночки, скляночки, трусики, бигуди – стали появляться в ванной, задвигая в угол крем для бритья и одеколон Эрмес. Книги Сьюзен о советском андеграунде смешались с русской поэзией Леона; а воздух, и без того тесной мансарды, все чаще забирал агрессивный и странный Ленинградский рок.
Сьюзен не замечала раздражения Леона. Но он ничего и не говорил, только надувал щеки, ворчал. Он не умел ругаться и “выяснять отношения”. Он хотел, чтобы все вокруг понимали его с полуслова, или еще лучше – без слов, как Жозефина.
Сьюзен, раздражающе веселая и ироничная, предлагала снять большую квартиру, но Леон категорически отказывался покидать мансарду. Оставила ее Сьюзен: однажды собрала свои вещи, вывезла их на машине подруги.
Они даже не поговорили. Леон понимал, что по законам жанра – любовной драмы – им надо объясниться. Как угодно, может даже шумно, с криками и слезами. Но он не любил всего этого. Когда уходил отец, Леон плакал последний раз: он умолял отца остаться. Тогда его поразило почему мать неподвижно стоит у окна – словно каменный обелиск на могиле их семейной жизни.
Поэтому он ничего не сказал Сьюзен. Очень удачно начались летние каникулы и он на два месяца уехал к матери, в Прованс.
В сентябре, когда Новый Год Ожиданий врывается в Париж, когда все возвращаются с морей с твёрдым убеждением, что всё будет лучше, чем раньше, они встретились в кафе.
Сьюзен ещё больше похудела, ее лицо покрылось милыми веснушками, выгоревшие пряди волос трепал добрый сентябрьский ветер.
Они проговорили три часа. Выпили бутылку вина, выкурили пачку сигарет, съели тарелку сыра. Они соскучились по разговорам друг с другом. Единственная вещь, которую они не обсуждали – внезапно оборвавшаяся любовь.
После окончания университета Сьюзен ненадолго уехала в Петербург, писать диссертацию о русском бандитском жаргоне девяностых. Леон преподавал в родном университете. Его жизнь была наполнена приятной рутиной: утренний кофе, прогулка с Жозефиной Второй, лекции в университете, работа в библиотеке, ужин и чтение книг; иногда необременительная интрижка с коллегой или студенткой.
По средам он навещал БабУшка Мари. Леон говорил “бабушка “по-русски, но с ударением на У. Бабушку Леон любил безмерно. Она была совсем малышкой, а ее старшая сестра Анна только отметила шестнадцатилетие, когда повесился Есенин. Через год семья уехала из России. Во Франции карьера отца девочек –доктора Брашинского сложилась удачно. Анна Брашинская засверкала в высшем парижском обществе холодной петербургской звездой, разбив не одно сердце. Ее же сердце было навсегда занято Есениным. Она считала себя виновной в его смерти, бессонными ночами металась на жарких простынях и рыдала: “Ведь если бы набралась смелости и пошла тогда к нему в гостиницу Англетер! Если бы осталась с ним! Спасла бы от тоски! Ах! “
Малышка Мари, выросшая на романтично – трагических воспоминаниях сестры, унаследовала безумную любовь к поэту и так же красиво страдала лет до семнадцать.
Мари Брашинскую спас от душевных терзаний веселый Жуль, отпрыск старинного рода (перед фамилией ставят гордое “дё”) и племянник мэра Ниццы. Замужество было счастливым: Жюль любил Мари, изменял ей осторожно, не задевая чувств жены. Мари не любила Жуля, но он был забавным, щедрым и не ревнивым. У нее было много любовников, но она выбирала исключительно светловолосых голубоглазых романтичных молодых людей до тех пор, пока сын не подарил ей внука. Ангела Леона.
И теперь, в возрасте девяносто четырех лет, БабУшка находилась в здравом уме, любила жизнь, умела красиво и со вкусом проводить время. Каждую среду Леон с удовольствием шел в ее большую квартиру на авеню Монтань с букетом цветов. БабУшка заказывала из ресторана устрицы для себя, спаржу и лосось – для любимого внука. Они распивали бутылку Шеваль Бло, выкуривали по сигаретке – Мари позволяла себе одну сигарету в день с бокалом вина.
Неспешная беседа о знакомых вещах, в сотый раз пересказ о том, как старшая сестра Анна встретила Есенина в ресторане Националь: поэт был пьян несчастлив и отчаянно прекрасен, кричал свои стихи:
Сыпь, гармоника! Скука… скука..
Гармонист пальцы льет волной.
Пей со мною, паршивая сука,
Пей со мной.
На этом моменте голос Мари всегда дрожал, а Леон брал ее маленькую сухую ручку и нежно целовал.
Леон чувствовал себя счастливым: жизнь размерена, приятна и без потрясений.
Иногда у него были любовницы. Но никогда, после Сьюзен, он не приводил никого в свою мансарду.
Единственное, что его огорчало – Жозефин Вторая была глупа. И она ела книги. Леон расстраивался и однажды даже позволил себе повысить голос на Жозефину. Но все было бестолку. Глупая собака нагло и бесстрашно смотрела хозяину прямо в глаза, и как только он отворачивался, подчистую с наслаждением грызла случайно оставленную книгу.