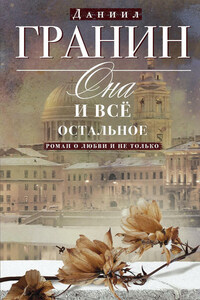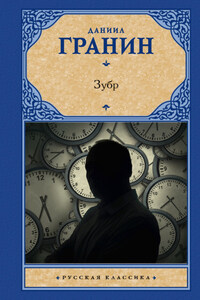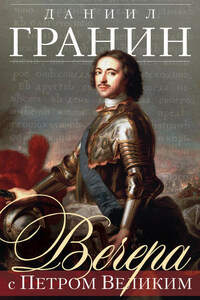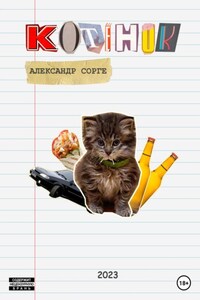«На этот раз я родился в двадцатом веке…»
Так бы мне хотелось начать биографию героя новой книги. В этом есть что-то из личных ощущений. Когда-то ты уже жил, поэтому удивляешься тому, как ныне все сложилось. Сколько надо было случайностей в судьбах родителей, а потом и в моей собственной, чтобы добраться до нынешнего дня.
Тогда они очень любили друг друга, отец мой и мать. Она была совсем молоденькой, она пела, у нее был хороший голос, все детство прошло под ее песни. Много было романсов, городских романсов двадцатых годов, иногда у меня выплывают какие-то строки-куплеты: «И разошлись, как в море корабли…», «Мы только знакомы, как странно…». Не было у нас инструмента;
учить ее тоже никто не учил, она просто пела, до последних лет. Стрекот швейной машинки и ее пение. Отец был старше ее на двадцать с лишним лет.
…1919 год, год моего рождения – в тех местах еще догорала Гражданская война, свирепствовали банды, вспыхивали мятежи. Они жили вдвоем в лесничествах где-то под Кингисеппом. Были снежные зимы, стрельба, пожары, разливы рек – первые воспоминания мешаются со слышанными от матери рассказами о тех годах. Детство – оно было лесное, позже – городское; обе эти струи, не смешиваясь, долго текли и так и остались в душе раздельными существованиями. Лесное – это баня со снежным сугробом, куда прыгал распаренный отец с мужиками, зимние лесные дороги, широкие самодельные лыжи (а лыжи городские – узкие, на которых мы ходили по Неве до самого залива. Нева тогда замерзала ровно, и на ней далеко блестели великолепные лыжни).
Лучше всего помнятся горы пахучих желтых опилок вблизи пилорам, бревна, проходы лесобиржи, смолокурни, и сани, и волки, уют керосиновой лампы, вагонетки на лежневых дорогах…
Родина писателя – детство. Это не мое выражение, но я часто ощущаю его справедливость. О детстве хочется писать с подробностями, потому что они помнятся, краски тех лет не тускнеют, некоторые картинки все так же свежи и подробны.
Матери-горожанке, моднице, молодой, красивой, не сиделось в деревне. Это я понимаю теперь, задним числом, разбираясь в их ночных шепотных спорах. А тогда все принималось как благо: и переезд в Ленинград, и городская школа, наезды отца с корзинами брусники, с лепешками, с деревенским топленым маслом. А все лето – у него в лесу, в леспромхозе. Как старшего ребенка, первого, сильно тянули меня каждый к себе. Это не была размолвка, а было разное понимание счастья. Потом все разрешилось другими обстоятельствами – отца сослали в Сибирь, куда-то под Бийск, а мы с тех пор стали ленинградцами. Мать работала портнихой. И дома прирабатывала тем же. Появлялись дамы – приходили выбирать фасон, примеривать. Мать любила и не любила эту работу – любила потому, что могла проявить свой вкус, художественную свою натуру, не любила оттого, что жили мы бедно, сама одеться она не могла, молодость ее уходила на чужие наряды.
Школа моя пошла всерьез примерно с шестого класса. В школе на Моховой оставалось еще несколько преподавателей бывшего здесь до революции Тенишевского училища – одной из лучших русских гимназий. В кабинете физики мы пользовались приборами времен Сименса-Гальске на толстых эбонитовых панелях с массивными латунными контактами. Каждый урок был как представление. Преподавал профессор Знаменский, потом его ученица – Ксения Николаевна. Длинный преподавательский стол был как сцена, где разыгрывалась феерия с участием луча света, разложенного призмами, электростатических машин, разрядов, вакуумных насосов.
У учительницы литературы не было никаких аппаратов, ничего, кроме стихов и убежденности, что литература – главный для нас предмет. Ее звали Аида Львовна. Она организовала литературный кружок, и большая часть класса стала сочинять стихи. Один из лучших наших школьных поэтов стал известным геологом, другой – математиком, третий – специалистом по русскому языку. Никто не остался поэтом. Мне же стихи не давались. С тех пор у меня появилось благоговейное отношение к поэзии как к высшему искусству. В порядке самоутверждения я тоже написал в школьный журнал, написал о том, что поразило меня тогда, – о смерти С. М. Кирова: Таврический дворец, где стоял гроб, прощание, траурная процессия…
Несмотря на интерес мой к литературе и истории, на семейном совете было признано, что инженерная специальность более надежная. Я подчинился, поступил на электротехнический факультет и кончил Политехнический институт перед войной. Энергетика, автоматика, строительство гидростанций были тогда профессиями, исполненными романтики, как позже атомная и ядерная физика. Наши профессора участвовали еще в создании плана ГОЭЛРО. О них ходили легенды. Они были зачинатели отечественной электротехники. Были своенравны, чудаковаты, отдельны, каждый позволял себе быть личностью, иметь свой язык, сообщать свои взгляды, они спорили друг с другом, спорили с принятыми теориями, с пятилетним планом. Мы ездили на практику на станции Свири, Кавказа, на Днепрогэс. Работали на монтаже, на ремонте, дежурили на пультах.
До нас стало доходить, что у равнинных гидростанций есть противники. Тогда я возмущался косными взглядами этих ученых. Понадобились годы и годы, чтобы убедиться, какой урон приносят искусственные моря, сооружения, губительные для рыбы, климата, как нерасчетливо строят гидростанции. Было нелегко пойти против своей специальности, своих наставников.
На пятом курсе, в разгар дипломной работы, я вдруг стал писать историческую повесть о Ярославе Домбровском. Ни с того ни с сего. Писал не о том, что знал, чем занимался, а о том, чего не знал, не видел. Тут было и польское восстание 1863 года, и Парижская коммуна. Вместо технических своих книг я выписывал в Публичной библиотеке альбомы с видами Парижа. О моем увлечении никто не знал. Писательства я стыдился. Написанное казалось безобразным, жалким, но остановиться я не мог.
После окончания института меня направили на Кировский завод, там я начал конструировать прибор для отыскания мест повреждения в кабелях. С Кировского завода в июле 1941 года я ушел в народное ополчение, на войну. Не пускали. Надо было добиваться, хлопотать, чтобы сняли броню. Война прошла для меня, не отпуская ни на день, до конца 1944 года. В 1942 году на фронте я вступил в партию.
Воевал я на Ленинградском фронте, потом на Прибалтийском, воевал в пехоте, в танковых войсках и кончил войну командиром роты тяжелых танков в Восточной Пруссии. Рассказывать о своей войне я не умею, да и писать о ней долго не решался. Тяжелая она была, слишком много смерти было вокруг. Если пометить, как на мишени, все просвистевшие вокруг пули, осколки, все мины, бомбы, снаряды, то с какой заколдованной четкостью вырисовывалась бы в пробитом воздухе моя уцелевшая фигура. Существование свое долго еще после войны считал я чудом и доставшуюся послевоенную жизнь – бесценным подарком. На войне я научился ненавидеть, убивать, мстить, быть жестоким и еще многому другому, чего не нужно человеку. Но война учила и братству, и любви. Тот парень, каким я пошел на войну, после этих четырех лет казался мне мальчиком, с которым у меня осталось мало общего. Впрочем, и тот, который вернулся с войны, сегодня тоже мне бы не понравился. Так же, как и я ему.