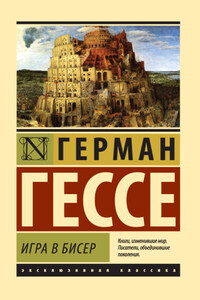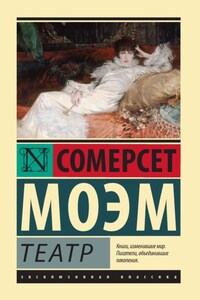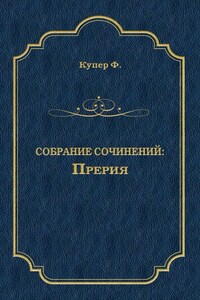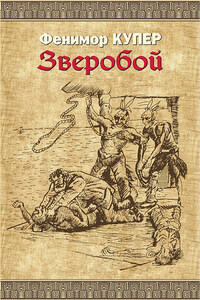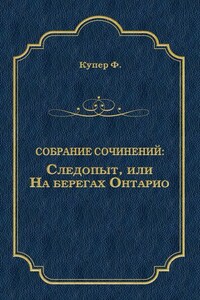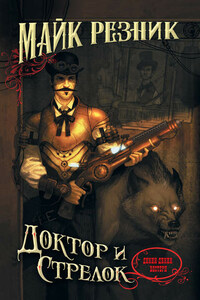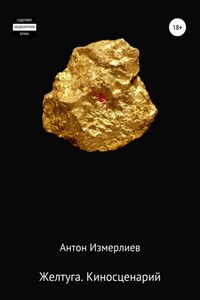Блаженств бессчетно в темной дикой пуще,
Отрад немало мрачный брег таит,
Есть музыка и в вое волн ревущих,
А в пустоте согласие царит.
Люблю природу, смертный мне претит.
Лишь с ней наедине я забывал,
Чем был, чем быть бы мог и чем не стал,
И, бесконечный мир в себе скрывая,
Не выражу в словах, но ощущаю.
Байрон. «Чайльд-Гарольд»[1]
События производят на воображение человека такое же действие, как время. Тому, кто много поездил и много повидал, кажется, будто он живет на свете давным-давно; чем богаче история народа важными происшествиями, тем скорее ложится на нее отпечаток древности. Иначе трудно объяснить, почему летописи Америки уже успели приобрести такой достопочтенный облик. Когда мы мысленно обращаемся к первым дням истории колонизации, период тот кажется далеким и туманным; тысячи перемен отодвигают в нашей памяти рождение наций к эпохе столь отдаленной, что она как бы теряется во мгле времен. А между тем, четырех жизней средней продолжительности было бы достаточно, чтобы передать из уст в уста в виде преданий все, что цивилизованный человек совершил в пределах американской республики. Хотя в одном только штате Нью-Йорк жителей больше, чем в любом из четырех самых маленьких европейских королевств и во всей Швейцарской конфедерации, прошло всего лишь двести лет с тех пор, как голландцы, основав свои первые поселения, начали выводить этот край из состояния дикости. То, что кажется таким древним благодаря множеству перемен, становится знакомым и близким, как только мы начинаем рассматривать его в перспективе времени.
Этот беглый взгляд на прошлое должен несколько ослабить удивление, которое иначе мог бы почувствовать читатель, рассматривая изображаемые нами картины, а некоторые добавочные пояснения воскресят в его уме те условия жизни, о которых мы хотим здесь рассказать. Исторически вполне достоверно, что всего сто лет назад такие поселки на восточных берегах Гудзона[2], как, например, Клаверак, Киндерхук и даже Покипси[3], не считались огражденными от нападения индейцев. И на берегах той же реки, на расстоянии мушкетного выстрела от верфей Олбани[4], еще до сих пор сохранилась резиденция младшей ветви Ван-Ренселеров[5] – крепость с бойницами, проделанными для защиты от того же коварного врага, хотя постройка эта относится к более позднему периоду. Такие же памятники детства нашей страны можно встретить повсюду в тех местах, которые ныне слывут истинным средоточием американской цивилизации. Это ясно доказывает, что все наши теперешние средства защиты от вражеского вторжения созданы за промежуток времени, немногим превышающий продолжительность одной человеческой жизни.
События, рассказанные в этой повести, происходили между 1740 и 1745 годами. В то время были заселены только четыре графства колонии Нью-Йорк, примыкающие к Атлантическому океану, узкая полоса земли по берегам Гудзона, от устья до водопадов вблизи истока, да несколько соседних областей по рекам Мохоку[6] и Скохари[7]. Широкие полосы девственных дебрей покрывали берега Мохока и простиралось далеко вглубь Новой Англии[8], скрывая в лесной чаще обутого в бесшумные мокасины[9] туземного воина, шагавшего по таинственной и кровавой тропе войны. Если взглянуть с высоты птичьего полета на всю область к востоку от Миссисипи, взору наблюдателя представилось бы необъятное лесное пространство, окаймленное близ морского берега сравнительно узкой полосой обработанных земель, усеянное сверкающими озерами и пересеченное извивающимися линиями рек. На фоне этой величественной картины уголок страны, который мы хотим описать, показался бы весьма незначительным. Однако мы будем продолжать наш рассказ в уверенности, что более или менее точное изображение одной части этой дикой области даст достаточно верное представление о ней в целом, если не считать мелких и несущественных различий.
Каковы бы ни были перемены, производимые человеком, вечный круговорот времен года остается незыблемым. Лето и зима, пора сева и пора жатвы следуют друг за другом в установленном порядке с изумительной правильностью, предоставляя человеку возможность направить высокие силы своего всеобъемлющего разума на познание законов, которыми управляется это бесконечное однообразие и вечное изменение. Столетиями летнее солнце обогревало своими лучами вершины благородных дубов и сосен и посылало свое тепло даже прячущимся в земле упорным корням, прежде чем послышались голоса, перекликавшиеся в чаще леса, зеленый покров которого купался в ярком блеске безоблачного июньского дня, в то время как стволы деревьев в сумрачном величии высились в окутывавшей их тени. Голоса, очевидно, принадлежали двум мужчинам, которые сбились с пути и пытались найти потерявшуюся тропинку. Наконец торжествующее восклицание возвестило об успехе поисков, и затем какой-то высокого роста человек выбрался из лабиринта мелких болот на поляну, образовавшуюся, видимо, частично от опустошений, произведенных ветром, и частично под действием огня. Отсюда хорошо было видно небо. Сама поляна, почти сплошь заваленная стволами высохших деревьев, раскинулась на склоне одного из тех высоких холмов или небольших гор, которыми пересечена едва ли не вся эта местность.
– Вот здесь можно перевести дух! – воскликнул лесной путник, отряхиваясь всем своим огромным телом, как большой дворовый пес, выбравшийся из снежного сугроба. – Ура, Зверобой! Наконец-то мы увидели дневной свет, а там и до озера недалеко.
Едва только прозвучали эти слова, как второй обитатель леса раздвинул болотные заросли и тоже вышел на поляну. Наскоро приведя в порядок свое оружие и истрепанную одежду, он присоединился к товарищу, уже расположившемуся на привале.
– Ты знаешь это место? – спросил тот, кого звали Зверобоем. – Или закричал просто потому, что увидел солнце?
– И по той и по этой причине, парень! Я узнал это местечко и очень рад, что снова вижу такого верного друга, как солнце. Теперь румбы компаса у нас опять перед глазами, и если мы еще раз собьемся с пути, то сами будем виноваты. Пусть меня больше не зовут Гарри Непоседа, если это не то самое место, где прошлым летом разбили свой лагерь и прожили целую неделю «охотники за землей»[10]. Гляди: вот сухие ветви от их шалаша, а вот и родник. Нет, малый, как ни люблю я солнце, я не нуждаюсь в нем, чтобы знать, когда наступает полдень: мое брюхо не уступит лучшим часам, какие можно найти в Колонии[11], и оно уже прозвонило половину первого. Итак, развяжи котомку, и подкрепимся для нового шестичасового похода.
После этого предложения оба занялись необходимыми приготовлениями к своей, как всегда, простой, но обильной трапезе. Мы воспользуемся перерывом в их беседе, чтобы дать читателю некоторое представление о внешности этих людей, которым суждено играть немаловажную роль в нашей повести. Трудно встретить более благородный образчик мужественной силы, чем тот из путников, который назвал себя Гарри Непоседой. Его настоящее имя было Генри Марч; но так как обитатели пограничной полосы заимствовали у индейцев обычай давать людям всевозможные клички, то чаще вспоминали его прозвище Непоседа, чем его подлинную фамилию. Нередко также называли его Гарри Торопыгой. Обе эти клички он получил за свою беспечность, порывистые движения и чрезвычайную стремительность, заставлявшую его вечно скитаться с места на место, отчего его и знали во всех поселках, разбросанных между британскими владениями и Канадой