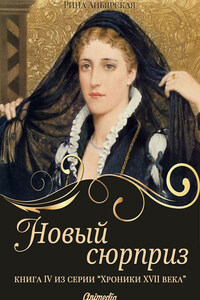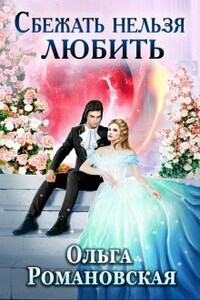За окном густо зашелестело дерево, повело ветвями, словно хотело опереться о стену, выпростать из земли свои корни, забраться на дом, чтобы с крыши дотянуться до облаков, а может и полететь к ним, за ними, в серебро высокой дали. День набрал высоту, потек долгим, как медовые соты, тяжелым теплом, и Ветру уже было не разойтись. В густоте воздуха он разложил по полям, пляжам и крышам свое тело, полы одежды, руки, волосы. Смотрел в ослепительное море, и только один его непокорный локон зацепился за какой-то флюгер, и тот, поскрипывая, водил поржавевшей стрелкой, как старая собака носом, из стороны в сторону, потеряв направление. Цикады кричали так неистово, будто зной возвещал о приближении чего-то, что они ожидали от начала творения. Земля спала тяжело, сухо отвердев сверху, словно губы от жажды в полуденный сон.
– Мальчишка не знает меры… – опершись о подоконник, прошелестела Тень.
Волшебник, не отрывая глаз от листа, на котором сосредоточенно писал, вытянув губы, слегка кивнул.
– Он несносен, взялся высушить всё… Трава хрупка как прах, как прах… – патетически раскачиваясь, продолжала Тень.
– На то он и Июль, – всё еще не поднимая взгляда, проговорил Волшебник.
– От блеска его воздушных змеев даже у бабочек кружатся головы!
Волшебник отнял глаза от бумаги, вставил перо в чернильницу и, подавшись в сторону окна, глянул на Тень:
– Вам-то, собственно, что от этого? От его света ваши лохмотья становятся только гуще! – и снова вернул взгляд к столу.
Слышно было, как ошалевший от жары жук, прогудев, стукается в стекло, будто за стеклом, за ним, прохладным, и мир не так раскален и неподвижен.
Тень, поджав губы, качнулась вслед за веткой от окна и осталась там, у клумбы, на которой жарко пламенели стойкие к зною мальвы, словно ей мальвы нравились или она в них что-то понимала. Волшебник, перечтя строки, попытался возвратить то неуловимое как пух состояние, когда мысли легко укладываются на бумагу. Наконец поймал и потянулся к перу.
На его столе всегда стояло несколько стаканов с карандашами и ручками, элегантная печатная машинка высилась за ними, и с краю, тонкий, серебристый, как сентябрь, компьютер неизменно светил какой-то лампочкой. Но Волшебник, хотя и пользовался для письма всем этим, в зависимости от настроения или сути записываемого меняя цвета, шрифты и принадлежности, перу доверял больше всего.
Когда бумага лежала, раскрыв объятия строке навстречу, лежала словно нагая, зовущая, и тот маленький, дерзкий и черный, что жил в старой бронзовой чернильнице, прыгал на нее с пера и целовал, целовал страстно, останавливался, перечеркивал и снова покрывал буквами, тогда Волшебнику казалось, что он летит. Летит быстро и уже не сам водит пером, а тот крохотный, черный и неуемный несет, словно конь! Уже сам бросает и бросает больные поцелуи на груди листов, строя строки. И тогда Волшебник отнимал руку от написанного, отчего по спине у него проходили мурашки, словно он совершил что-то кощунственное или внезапно проснулся, и смотрел как неукротимый крошка, сияя глазом, цепляется сильно за кончик пера, чтобы не сорваться, не разбиться безобразной кляксой, и вернуться к бумаге, в ее объятиях снова понестись, обрести власть и смысл.
Волшебник сравнивал с собой этого неуемного черного дикаря, запертого в толстых узорчатых бронзовых стеночках. Сравнивал потому, что сам так же, бывало, обретал власть над миром в объятиях.
Да, достаточно было порой просто ощущения ладони в ладони, полученного накануне сообщения, ощущения от мимолетного поцелуя в угол губ. До этого словно сидел запертый в стенки себя, как чёрный в своей чернильнице, но легкое касание словом ли, пальцем ли, губами делало брешь, и сквозь нее он врывался в мир, видел его другим и там носился всесильным написать всему любую судьбу! Хотя иногда те же губы, что прежде целовали, закрывали эту брешь произнесённым, а иной раз и не произнесённым словом, и он, вырвавшийся из себя в просторный мир, замечал вдруг, что это не он видел мир другим, это и правда не его мир, это другой. И тогда ох как хотелось вернуться в себя. Только это было так же трудно, как вернуться черному в чернильницу, если она опрокидывалась. Какую-то часть собрать, обратно влить удавалось, но какая-то навсегда оставалась в том, другом, мире. И тяжело было не только от того, что вернувшись в себя, в себе бултыхался, заполняя себя же только наполовину, было мутно и от того, что тот, другой мир ты собой наверняка запятнал.
У Волшебника не всегда находилось время на переписку, не говоря уже о дневниках, комментариях и описаниях опытов, так как во всякое время в его доме могло появиться множество гостей. Они были разными: молодыми, зрелыми, новорожденными или даже древними. Все они бродили по комнатам, занимали библиотеку или просто слонялись по коридорам. Некоторые ходили по стенам или потолку, потому что так им было привычнее, и тогда их променад создавал помеху тем, кто прохаживался по полу или пил чай, сидя в кресле.
Вообще в его доме были приняты ежевечерние чаепития. Никто кроме как «дом» жилище Волшебника не называл; в разговорах ли, в записках друг к другу, договариваясь о встрече у него, спрашивали «Вы будете сегодня в доме?» или «Я сегодня до восьми в доме, потом в залив».
Тем, кому яркий свет не был мил, в углах, завешенных тяжкими старинными шалями, горели китайские фонари, для тех, кому просторы были ближе, на террасу распахивались двери, чтоб синего воздуха сумерек входило в комнату как можно больше.
Шелестели разговоры, на желтые ковры ступали ноги в туфлях, башмаках, босые. На стеклах буфета малютки-блики игрались кубиками света, перебирая ножками, переползали на полированные колени мебели и к вечеру, потихоньку забравшись на стекла распахнутых окон, засыпали там, наигравшись звездными крошками. А за окнами в три стороны простор простирал ладони, упираясь ими в море, признающее над собой только светила и потому раскатывающее воды широко и вольно.
В три стороны расходились лучи, выпадающие поздним вечером из окон дома Волшебника: в сторону зовущего Востока, непостоянного Юга и таинственного Запада, на Север же выходила дверь. Волшебнику нравилось, открывая дверь, встретить его прямой взгляд так же, как нравилось иногда от этого тревожащего взгляда уходить – закрыть дверь и скрыться в недра дома за мягким щелчком замка.
Наконец комментарий был составлен, точка опустилась на страницу, крошка на кончике пера смирился с этим и затих, будто сговорившись с мыслями самого Волшебника, который вздохнул и вытянул ноги под столом.