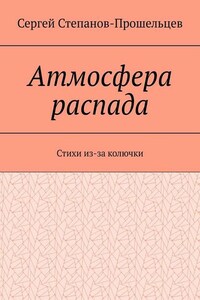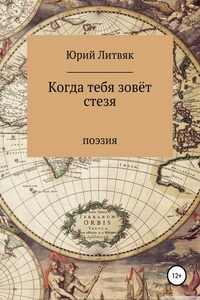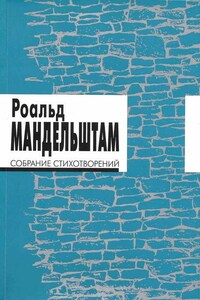Нет высшей свободы, чем эта свобода
* * *
Предзонник. Зона. Шмон. Встречает лагерь
колючкою и на ларьке замком.
Иду в промокшей, порванной телаге
в свою локалку – так велит Закон.
Одна мечта – упасть скорей на шконку,
чтоб позабыть, чтоб утопить во сне
сырой барак, похабную наколку
на сколиозной старческой спине,
овчарок лай и окрик конвоира…
Осточертела эта кутерьма!
Меня мутит, как будто от чифира,
от этой жизни, серой, как зима.
Но даже здесь, среди людского сора,
нельзя простить себе малейший сбой,
чтоб даже в крайней степени позора
быть человеком, быть самим собой.
И зубы сжав, пусть все вокруг немило,
шагать в пургу, в пустую трату дней,
чтоб свято верить в справедливость мира
и полюбить его еще сильней.
Чтоб, словно Феникс сказочный, из пепла
сумел я встать, ещё совсем не стар.
Чтоб эта вера ширилась и крепла,
как искра, превращённая в пожар.
* * *
За бетонной стеной, за решёткой стальной
снова слышится трель милицейской свирели.
Хулиганов становится больше весной,
и штакетник трещит от напора сирени.
Жизнь моя, словно эта хмельная весна,
отшумела, мелькнув только призраком рая.
И удача —обманчива, точно блесна, —
где-то рядом была, не меняя ободряя.
Бьет в намордник окна шалых листьев пурга,
бесконвойные ветры шумят без призора.
И щербинка луны – как улыбка врага,
и звезда в небесах – как свидетель позора.
.
* * *
Город гудел, как улей, и жизнь у меня была
стремительнее, чем пуля, летящая из ствола.
Затрещин, обид и премий отмерив, как и другим,
меня захлестнуло время арканом своим тугим.
Не думал над каждым шагом, что будет – я не гадал…
Теперь вот коплю, как скряга, потерянные года.
Бездельем бездумных буден томясь, я встаю чуть свет.
И будущего не будет, и прошлого тоже нет.
Ни цели, ни перспективы, лишь мухи у потолка.
И время течет лениво,
как медленная река.
* * *
Нет высшей свободы, чем эта свобода,
когда ты свободен от власти и денег,
когда не пугает любая погода,
когда ты, как ветер, такой же бездельник;
когда ты срываешься с крыши, как птица —
ни отчего крова, ни признака боли, —
когда ничего тебе ночью не снится
и нет тебе дела, что будет с тобою;
когда за окном облаков белоснежность
и грустно от их торопливого бега,
как будто последнюю чувствуешь нежность —
прощальную нежность апрельского снега.
* * *
Сколько выпало невзгод, но такой беды не снилось.
Сутки тянутся, как год, ночь – как будто Божья милость,
что дарована не в прок, как и ранняя усталость.
Оглушил тяжёлый рок той судьбы, что мне досталась.
Что теперь? Одна лишь мгла. Житель я другого мира:
ни забот и ни угла – жизнь, как линия пунктира.
Исправлять – напрасный труд. Ну, хотя бы не сегодня.
И опять все струны рвут музыканты Преисподней.
Мы – зэки. Мы — каждый сам по себе
* * *
Пахнет с воли солянкой – тошно.
Тащат с рынка морковь, картошку,
из авосек точит шпинат.
Здесь, как раньше, с харчами тяжко:
заблудившуюся дворняжку,
втихаря отварив, едят.
Нынче — праздник. Потом — по-новой
миска каши в обед перловой
и баланда – одна вода,
никаких тут куриных грудок,
и тоскует пустой желудок,
как узбек на бирже труда.
Где-то жарят картошку с салом…
Лом хватаю, чтоб легче стало,
бью по камню — таков мой крест.
Нет лекарств эффективней лома!
…Выйдет срок мой – полгастронома
съем, наверно, в один присест.
* * *
У этих тёмных окон я
коплю тоску галимую.
Прощай, моя далекая,
прощай, моя любимая!
Я заперт в тесной камере,
стою в проходе узеньком.
Оркестр играет камерный
трагическую музыку.
Она такая страшная,
она такая душная —
как реквием по нашему
с тобою равнодушию.
* * *
Я не станцию — я государство проспал,
и его ни за что не вернёшь.
На стиральной доске креозотовых шпал
мылит путь надоедливый дождь.
Мчит «столыпин». Он ржавой селёдкой пропах —
нам паёк выдавали сухой.
И песок (но песок ли?) хрустит на зубах —
это кости, что стали мукой.
Эти кости на мельнице смерти смолол
вдохновитель кровавых ночей.
И уже не селёдкою пахнет — смолой,
горькой серой из адских печей.
Здесь сосновая глушь. Мне теперь предстоит
слушать то, что наш мир не забыл:
не изысканный шёпот холёных столиц,
а сирену и рёв бензопил.
Там студёный январь в рог бараний согнёт,
сунет мордою в лагерный быт…
Это всё происходит не только со мной —
вся страна на коленях стоит.
Раньше вольницы были в тайге острова,
а теперь – лишь метель и конвой…
Ты прости, что мне снится,
прости мне, страна,
тот безумный, тот тридцать седьмой.
* * *
Ветер к полуночи вдруг слинял, звёздный свет голубой…
Тычется в створки окна луна лысою головой.
Выйду к некормленым голубям, вот я и дохромал…
Всё — голубям, одарить тебя
нечем — мой пуст карман.
Хлебные крошки птицы клюют, белый пурги дымок…
Ты извини, но что есть уют, как-то мне невдомёк.
Я в безысходности февраля лета не жду визит.
Знаешь, недвижимость вся моя
здесь на крючке висит.
Я ничего совсем не скопил – не было в том проблем:
я никогда не бывал скупым, только делился всем.
И никуда меня не зови – этого я не жду:
я, как голодные сизари,
сам доклюю беду.
* * *
Июльский полдень. Душный ветер густ
над лагерем, что стал моей квартирой.
И свет дрожит — как будто сотни люстр
внезапно лихорадка охватила.
Развод прислала прежняя жена.
Удар под дых. А здесь – шмоляяют в спины…
Дотла палящим солнцем сожжена
земля вокруг – земля моей чужбины.
Но мне ещё не вынесен вердикт.
Ещё я жив. О том молчу, как рыба.
И труп в запретке третий день смердит
безногого по прозвищу Шкандыба.
Он сирота и родственников нет,
теперь в нём столько дырок, как в дуршлаге.
Он никому не нужен, дармоед,
как никому не нужен этот лагерь.
* * *
Костра озорные космы причудливо трепетали,
опалубка догорала, исполнив последний долг,
а мы у костра сидели на сломанной бочкотаре,
и плавилось отчужденье, как возле огня ледок.
Всего только четверть часа — наверное, это мало,
но пара затяжек «Примы» — и силы я сохраню.
Ведь пламя — на то и пламя, что всех нас объединяло,
как пращуров, что в пещере молились Царю-огню.
Нам было светло и жарко назло всем метельным зимам,
и синей гвоздикой сварки монтаж распускал бутон.
Сновали цементовозы, бетон подвозили ЗиЛы,
И тёплыми были руки, формующие бетон.
И как-то в душе теплело, пусть срок оставался сроком,
и это тепло мы вскоре почувствуем, уходя,
когда улыбнётся зданье широкой улыбкой окон,
подмигивая игриво блестящим глазком гвоздя.
* * *
Я вытру с лица свой горячий пот.
Всё! Перекур. В бытовке сидим.
Здесь тесно от ватников и сапог,
табачный плавает дым.
Грубо сколоченная скамья…
И совсем незаметно минуты текут,
но здесь мы – словно одна семья,
и поэтому здесь уют.
Мы — зэки. Мы — каждый сам по себе.
У зэка нету друзей.
Но я – Сергей, мой напарник