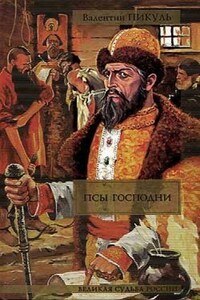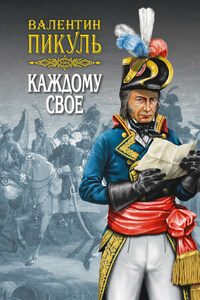Я плохо разбираюсь в людях, ибо слишком люблю их: однако должен сознаться, что меня ни к кому так не влекло и не тянуло, как к Андрею Карабанову.
От самого Петербурга до Баязета за ним надобно было следить; он был похож на ребенка, испорченного и капризного. Его уже нет среди нас, и я ему все прощаю…
Прапорщик Ф. П. фон Клюгенау
1
Офицера трясла лихорадка. Трясла не вовремя – на службе, на кордоне. Он схватил ее, заодно с Георгиевским крестом за храбрость, в тяжком Хивинском походе.
Это было четыре года назад.
– Неужто четыре?..
За стеной ревели некормленые верблюды. Он лежал на топчане, старенькая шашка свисала на земляной пол. Хитрющие персидские клопы падали с потолка.
– А кажется, четыре, – покорно согласился офицер и потянул на себя шинелишку, прожженную у костров.
Тут его снова скрутило. Сначала кинуло вбок – прилепило к стенке. Потом, словно в падучей, выгнуло дугой, поставив на затылок и на пятки, как горбатый мост.
И началось.
– Время-то-то-то, – тряско стучал он зубами, – летит-то-то-то как… Все летит и летит…
Вошел старый солдат, внимательно посмотрел себе под ноги и что-то долго растирал на полу разбухшим сапожищем.
– Ваше благородие, – лениво буркнул он, – конвой казачий с Тифлису: барыня куды-то волокется…
Высосав полстакана водки, настоянной на хине, офицер шагнул из дощатой сторожки. Двое верблюдов, грязных и тощих, лежали у дороги на привязи: было велено держать их здесь, дабы лошади привыкали к уродству природы и не пугались караванов из Персии.
Возле шлагбаума, в окружении конных казаков, мокла под косым дождем крытая войлоком коляска.
– Куда держите путь, су-су-сударыня?
Из дормеза уютно и забыто, как ласка матери, пахнуло на офицера женским теплом, и молодая дама в ротонде из синего плюша с удивлением огляделась вокруг.
– Я, сударь, спешу, – сказала она. – Мой лазарет – номер одиннадцать. Эриванский отряд генерала Тер-Гукасова… Баязет – кажется, так зовут это место, куда мне нужно. А комендантом в Игдыре – мой супруг, полковник Хвощинский… Казаки! – поманила их спутница рукой в серебристой перчатке. – Поднимите кошму, чтобы виден был красный крест!
– Хвощинский? – неловко приосанился офицер. – Имею честь знать: еще по Самарканду и Хиве… Антипов, – повелел он, захлопывая дверцу коляски, – шлагбаум подвысь!
Скрипнув колесами по мокрой щебенке, коляска тронулась. Казаки вытянули усталых лошадей нагайками. Опрокинув наотмашь пики, пригнулись в седлах.
И офицер, обругав службу, вернулся в караулку.
– Сударыня, – немедленно произнес он, проверяя себя, – подвысь… Хвощинский… честь имею…
Офицер успокоился: зубы уже не стучали.
Раскрыв кордонный журнал, примотанный цепью к ножке стола (чтобы проезжие казаки не извели его на самокрутки), он ковырнул пером в чернильной склянице.
Последняя запись в журнале была такова:
Мимо кордона, направляясь по делам службы в гарнизон Игдыра, проследовали без конвоя, за что им было сделано внушение: инженерный прапорщик Ф. П. фон Клюгенау и поручик Уманского казачьего полка А. Е. Карабанов.
И немного ниже караульный офицер записал:
По дороге на Баязет, через Эчмиадзинский монастырь, проехала молодая прекрасная дама (слово «прекрасная» он тут же зачеркнул, а «молодая» решил оставить), супруга игдырского коменданта. При даме конвой – шестеро казаков линейной службы.
Написав, он подумал, что в Баязет этой даме не попасть. Там сидят курды, черкесы и турки. И точат сабли. И режут армян. И грабят аулы. Готовятся… Газават!
Но исправить ошибку не захотелось, и офицер, бренча шашкой, снова завалился на топчан…
– Четыре всего года, мать честная! – сказал он себе, вспоминая безводный зной, сверкание песков и верблюжий рев под свист хивинских пуль, нарубленных из ржавых гвоздей…
Этот офицер был в дурном настроении. Ему было плохо. А потому оставим его в покое. Нам до него нет никакого дела. И он никогда не будет нашим героем!..
2
Тонкий розоватый воздух зябко вздрагивал над вершинами гор. По долинам текли стада, и пастухи с корявыми посохами в руках походили в своем величии на древних апостолов. Казалось, что тысячелетние лохмотья их бешметов еще хранят библейские запахи овечьего сыра, искристых трав и бестелесных туманов…
Поручик 2-й сотни Уманского казачьего полка Андрей Карабанов вертел меж колен шашку, купленную в Эривани по случаю, уныло поглядывал на крыши аула и думал о том, что ему придется погибнуть. И не когда-нибудь, а уже скоро: в первой же схватке, от первой же пули.
Но думалось об этом как-то легко и совсем без боли; и было тихо, и было пусто…
– Говорите, прапорщик, не стесняйтесь, – сказал Карабанов, почесав густую светлую бровь. – Слушать вас – все равно что соблазнять замужнюю даму или курить гашиш: и вредно, и приятно…
Инженерный прапорщик Федор фон Клюгенау, в котором от немецкого осталось только имя, а от баронства – уже ненужная по бедности приставка «фон», человек невысокий, сутулый, с очками на курносом носу, говорил восторженно, сияя лицом, некрасивым и бледным:
– Скажите, поручик: и отчего мы иногда начинаем вдруг стыдиться идиллий? Пастушья свирель нам кажется наивной, мы боимся понюхать цветок, святое отношение к женщине смешит нас… Бедная Лиза, конечно, глупа, но разве же было бы плохо встретить ее в жизни?.. Неужели вам еще не надоело слушать меня? – спросил он, сутулясь под своей буркой.
– Слова не мешают, – усмехнулся Карабанов.
– Понимаю. – Клюгенау кивнул. – Мешать могут только мысли… Я говорю сейчас несколько сумбурно. Правда? Но мне кажется, что наши предки, которые с дубиной в волосатых руках гонялись за оленем, не умели еще ревновать женщину и в шелесте дубрав видели высшее проявление поэзии, – все-таки, поручик, они были куда счастливее нас…
– Вот сволочь! – неожиданно выругался Карабанов. – Проклятый грек! Ведь последние деньги отдал ему, лучше бы их пропил.