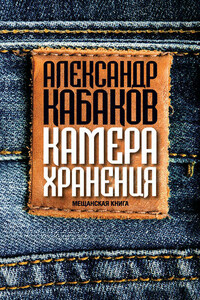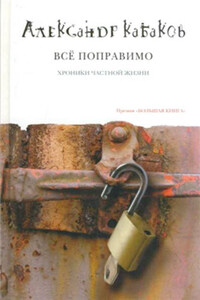У любви, как у пташки… Понял? И все дела.
Из разговора
Вне столь уж далекие времена молодости странное чувство посещало иногда автора. Возьмешь эдак библиотечный день, быстро проделаешь в гэпээнтэбэ необходимую выборку библиографии по плановой теме, заключишь это кружкой пива в расположившемся неподалеку от средоточия научных и технических знаний заведении, да и отправишься бродить по огромному городу, в котором мы с вами живем… И вдруг, в толпе, средь жаждущих приобретений и отдыха земляков и приезжих, ощутишь: один, совершенно один! Все вокруг полны недоступными твоему пониманию заботами, тайной и непостижимой твоему разуму жизнью, а ты – пария иль избранник? – бредешь чужой, ни на кого не похожий, отдельный. Была такая иллюзия исключительности, свойственная юному существу.
Минуло все это. Вот исторгает тебя автобус после рабочего дня вместе с десятками и сотнями твоих соседей по жилому микрорайону, и ты идешь по дорожкам и тропинкам, ведущим в глубь квартала, точно такой же, как остальные.
Это просто входишь, следовательно, в возраст зрелости, когда опыт радостей и разочарований уж твердо укрепляет тебя на положенном месте, и замечаешь: ан, а место-то неотличимо от любого иного. Столько же и счастья на него отпущено, и горестей. И что может быть прекраснее!.. Начало – в отличении себя от других; продолжение же – в совмещении, ибо ты единственный, как и все.
1
Спустя примерно полтора года после того, как произошли основные события следующего далее сюжета, которые, собственно, и событиями назвать нельзя, а так – ощущения, тени, шепот, робкое дыхание, лирический горьковатый соус на жилистом отварном мясе трудовых и нетрудовых будней, – итак, спустя примерно полтора года после того, как автор наткнулся на своего героя, пересекая огромный двор, который, собственно, и двором назвать нельзя, потому что ни заборов, ни подворотен, ни врытого в землю стола под жестяным абажуром лампы на косо провисающем проводе, ни грядок бабы Муси, ни деревянных ларей помойки, ни дворника Рустэма здесь не было, а были только длинные корабли и башни жилищ с затеками по межблоковым швам да хоккейная коробочка, старательно расписанная как бы рекламой по высоким телевизионным образцам, да железные ржавые гаражи – словом, спустя примерно полтора года после того, как герой наш, называемый в соответствии с традициями, заложенными еще в советском детском саду, в основном по фамилии, Игнатьевым, которого, естественно, и героем-то назвать нельзя никак, поскольку ни в общественно-политическом смысле, ни в литературно-художественном он никакими качествами героя не обладает, не воплощает лучшие и типические черты, не поражает глубиной психологической разработки характера, не совершает, наконец, даже никаких, собственно, поступков, а если и совершает какие-то более значительные, чем прикуривание, то как бы за рамой этого, предлагаемого в данный момент читателю литературного полотна, короче, спустя примерно полтора года после того, как началась в жизни Игнатьева одна большая перемена, мы бестактно ворвемся в однокомнатную кооперативную квартиру среди бела дня и застанем в ней акт любви.
Вообще-то, потому и фраза получилась такой невообразимой длины, что как-то не решался на это автор, как-то вроде неловко было.
…Он старался раздеться быстро и при этом не оскорбить ее эстетическое, как он предполагал, чувство видом своего мужского туалета, и поэтому сдергивал все попарно – сначала клетчатую рубашку вместе с голубой майкой, потом отечественные брюки с аналогичными трусами темного цвета, а уж после, переступая новыми носками по болгарскому паласу, подошел к тахте, которую он называл мысленно софой, а по сути-то она была диваном-кроватью, и остановился вплотную к ложу, упершись в его край голенями и стараясь не глядеть вниз. Он очень хотел посмотреть вниз, ему было чрезвычайно интересно увидеть многое внизу, хотя в свои тридцать девять с лишним лет он несколько раз видел это и при более ярком свете, чем тот золотой пыльный дымок, что проникал в комнату сквозь шторы, но он предполагал, что здесь можно увидеть что-то совсем другое в смысле эстетики и культуры, а взглянуть не мог. Он не знал, понравится ли, что вот так станет разглядывать, и не покажется ли совсем недостойным такой явный интерес, как будто не видел никогда.
Она лежала навзничь прямо на сброшенном халатике и не закрывала глаза, хотя понимала, что это неловко, поскольку может вызвать совсем уж нежелательное смущение, и без того наполнившее всю комнату и особенно густо стоявшее над тахтою. В поле ее зрения прежде всего были большие красные кисти с толстыми выпуклыми ногтями, а от них вверх шли красно загорелые руки с мощными жилами, торс же был абсолютно бел, даже голубоват и безволос, что ее удивило, потому что весь ее опыт подсказывал, что такой сильный физически мужчина среднего возраста обязательно должен быть волосат, но, видимо, это правило распространялось только на творческую и высший слой технической интеллигенции. Она видела хорошо выбритый подбородок, от которого вверх, огибая рот, к носу уходили глубокие складки, а над всем был виден край седовато-русого чуба, но это уже видно было смутно, так как она была близорука, а очки сняла и положила на пол в головах. Она, вероятно, могла бы увидеть и еще какие-нибудь детали атлетического сложения, но красные огромные кисти были сложены, скрещены, и взгляд натыкался на них и застывал, притянутый этими непропорциональными орудиями малоквалифицированного физического труда, этими выпуклыми роговыми ногтями и жилами.
Он осторожно лег, стараясь перевалить через тонкое и, видимо, легко ранимое, но круглое колено, не задев его, и на секунду застыл, упершись локтями в тахту, которую он по-прежнему мысленно называл софой, зависнув в воздухе и не зная, куда девать оставшиеся в определенной степени свободными руки. Он приложил рот к ее рту, но из поцелуя ничего не вышло, потому что она, как ему показалось, как-то оскалилась, и он отодвинулся, решив, что ей неприятен слишком сильный запах табака, а может, и еще чего, что он когда-либо ел или просто брал в рот. Он почувствовал ее руки и испугался, что, наверное, тем самым она дает понять нехватку его страсти, умения и напора, но тут она наконец закрыла глаза, и все получилось само собой, и через пару минут он уже не думал ни о чем, забыв даже о мучившем его душевном разладе – снимать или не снимать носки. Он открывал глаза и видел близко-близко, как траву, в которой валялся когда-то пацаном, розово-бежевую сморщенную кожу, сходящуюся к возвышению, имевшему форму пули и примерно такие же размеры. Он видел маленькое треугольное облако мелкозавитых волос, как бы парившее над кожей. Он видел то приближающееся вплотную, то отодвигающееся незагорелое, гладкое, тяжелое, круглое, туго обтянутое, от которого шел ровный несильный жар, как от пляжного светлого песка. Он видел ее над собой, уходящую ввысь, словно памятник, установленный на нем в ознаменование победы советского человека в многолетней и изнурительной борьбе естества против морального кодекса. Он видел ее сверху, словно родную землю из космоса, и она казалась ему, как и героям-космонавтам, маленькой и беззащитной. Он видел ее сбоку, и она заслоняла от него весь мир и большую часть комнаты, и он казался себе в полной безопасности за ее спиной, и сам прикрывал ее от всех опасностей. Он видел ее сильно растрепавшиеся волосы, ее короткую стрижку, и ему хотелось, согнувшись, прикрыть ее всю собой, прижав покрепче голову, но он боялся, что тогда она не сможет дышать.