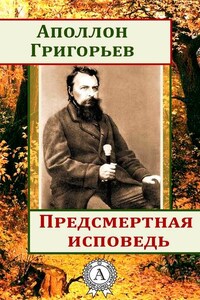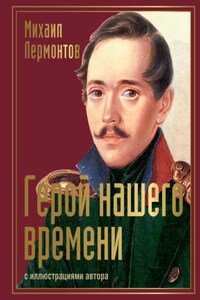Был полдень. На Невском еще не мелькали обычные группы и лица. Все, что шло по нему, шло с особенною целию, и эта ли цель или довольно сильный мороз сообщали особенную скорость походке пешеходцев.
Один только человек не имел в это время определенной цели и шел по Невскому для того, чтобы идти по Невскому. Он вышел из кондитерской Излера,[1] довольно медленно сошел по ступеням чугунной лестницы, поднял бобровый воротник своего коричневого пальто, вероятно почувствовавши холод, надвинул почти на глаза шапку с меховою опушкою и, заложив руки в карманы, двинулся по направлению к Полицейскому мосту.[2]
Двинулся – сказал я, – потому что в самом деле было что-то непроизвольное в походке этого человека; без сознания и цели он шел, казалось повинуясь какой-то внешней силе, сгорбясь, как бы под тяжестью, медленно, как поденщик, который идет на работу. Он был страшно худ и бледен, и его впалые черные глаза, которые одни почти видны были из-под шапки, только сверкали, а не глядели. Изредка, впрочем, останавливался он перед окнами магазинов, в которых выставлены были эстампы, и стоял тогда на одном месте долго, как человек, которому торопиться вовсе некуда, которому все равно, стоять или идти. Но и глядя на эстампы, он, казалось, не глядел на них, потому что на лице его не отражалось ни малейшей степени участия или интереса.
Во время одной из таких остановок двери магазина, перед окнами которого он стоял, отворились, и из них выпорхнула женщина, которое появление заставило бы всякого, кроме его, выйти из апатии. Черты лица ее были так тонки, цвет кожи так прозрачен, походка так воздушно-легка, что она могла бы показаться скорее светлою тенью, тончайшим паром, чем существом из плоти и костей, если бы яркие, необыкновенно яркие голубые глаза не глядели так быстро и живо, что в состоянии были бы, взглянувши на человека, заставить его потупиться. Она была одета легко и даже слишком легко, потому что все, что было на ней мехового, могло ее украшать, но уже вовсе не греть. Лицо ее было одно из тех немногих у нас лиц, которые, промелькнувши перед вами даже профилем, не выйдут из вашей памяти, потому что, кто бы вы ни были – старик, муж или юноша, они, эти лица, сольются для вас с первыми грезами детства, с первыми снами жизни; одно из тех лиц, на которых странно-гармонически сливаются и чистота младенческой молитвы, и первые грешные мечты, поднимающие грудь женщины, и детски-простая улыбка ангелов Рафаеля, и выражение лукаво-женского кокетства.
Она выпорхнула из магазина, как птичка, беззаботно и весело, как ребенок, которому купили игрушку, – но это движение в одну минуту и без резкого перехода сменилось у нее выражением до того строгим и холодным, что ее нельзя было узнать. Мига этой перемены вы бы не уловили. Вы могли сказать только, что перед вами выпорхнула птичка и что перед вами же стояла на ступенях лестницы прекрасная, но строгая фигура женщины, с ресницами, опущенными не от скромности, но от холодности, с нетерпеливым выражением на бледных и тонких устах, вероятно потому, что человек, который шел за нею с лестницы магазина и нес разные пачки, был слишком тяжел, чтобы следовать за ней шаг за шагом.
– Боже мой – наконец! – сказала она почти с досадою.
– Сию минуту, сударыня, – отвечал лакей. – Эй ты, подавай, – закричал он во все горло почти над ухом красавицы.
Она вздрогнула.
Извощичий возок медленно стал поворачивать.
В это время она рассеянно взглянула направо.
Чудак еще стоял перед окнами, по-прежнему сунувши руки в карманы.
При первом взгляде на него в глазах ее выразилось то смутное, неопределенное чувство, которое овладевает нами, когда мы припоминаем себе что-нибудь; но чувство это пробежало на ней мгновенно, как молния. В полсекунды она уже была подле него.
– Виталин! – вскричала она.
Он вздрогнул и, узнавши ее в ту же, казалось, минуту, хотел сказать ей что-то.
– Виталин, – повторила она с детскою радостью и, не давши ему выговорить, завладела его левою рукою и повлекла за собою к карете.
Он не противился, но дружески пожал эту поданную ему маленькую и бледную руку; больше еще, его неподвижность исчезла, он очень ловко помог ей впорхнуть в карету, влез за нею и захлопнул дверцы.
– Домой, – закричала она из окна. Карета поехала.
– Давно ли ты здесь? – спросил Виталин, садясь подле нее и нисколько, казалось, не изумленный нежданною встречею.
– Почти год, – отвечала она, – и почти столько же ищу тебя по всему Петербургу. Я знала, что ты здесь, – но где, это было мне неизвестно, как всем. Ты бог знает что делаешь, – прибавила она, взглянувши на него грустно. – Ты забыл всех, всех…
– Ну, многие, конечно, меня в этом предупредили, – возразил Виталин. – Да и скажи на милость, к кому я там стану писать?… К тебе… но, кстати, муж твой здесь?
– Он умер, – сказала она, стараясь придать тону этого ответа прилично-печальный оттенок.
– Без церемоний, пожалуйста… Это самое умное дело, какое он сделал в свою жизнь. Он надоел тебе страшно?
Она молчала, потупив глаза.
– Он был удивительно глуп, не правда ли? – продолжал Виталин все так же спокойно, как будто говорил о живом и совершенно постороннем человеке.
Она кусала губы, чтобы не расхохотаться.
– Но оставим его… Зачем ты здесь?
– Зачем ты-то здесь, и целые годы? – отвечала она и, привязавшись к этим словам, захохотала, как ребенок.
– Зачем?… Вероятно, затем, что здесь незаметнее ничего не делать, пьянствовать и проч. Кстати, легенды обо мне разрослись, я думаю, в целую поэму? Как там, по преданиям, я пью?… Верно, мертвую чашу? А играю, а? Наверную?
Говоря это, Виталин нервически смеялся.
Ее голубые глаза потемнели от слез, она хватала обеими руками его похуделые и маленькие пальцы.
– Бедный, – прошептала она, – ты все еще не позабыл ничего прежнего?
Он был тронут ее участием и, схвативши одну из ее рук, поднес к губам.
– Зачем ты здесь? – повторил он тихо и нежно, смотря на нее глубоко грустно.
– Это ты узнаешь нынче же, – отвечала она как-то робко и принужденно.
– Отчего не теперь?
– Не все ли равно тебе?
– Ты знаешь, как я не люблю откладывать того, что можно узнать сию секунду, на целый день.
– Впрочем, – сказала она, принужденно-весело, – что же такое нынче или завтра? Итак, мой добрый друг, не удивляйся, не брани меня… я – актриса.
И сказавши это с усилием, она опустила ресницы.
– Ты актриса? – почти вскричал Виталин с радостным изумлением.
Тон его ответа произвел на нее какое-то странное действие; она вся оживилась, ее щеки вспыхнули румянцем, и она бросилась к нему на грудь.
– Ты не упрекаешь меня? – спросила она с радостью ребенка, который ждал упрека и услыхал слово любви.