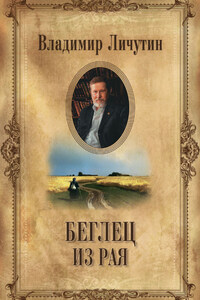Трясу дерево, с которого ссыпаются мои внуки. Они катятся, перемешанные с пылью – и не отличишь, кто есть кто. Кричат:
– Оума, в твоих глазах незаконный блеск! Расскажи нам о своей дочке и других детях!
Имя дочери царапает воздух листом железа. Я варю сорговое пиво и пахну огнём, а ребятам только бы зарыться в колдовство. Любят эту историю, потому что её посыпали чем-то не из нашего мира.
Слушайте малютки, мои и чужие, слетайтесь на ступеньки под свет лампы, мотыли. Пена времени моет красную землю. Музыка Ибрагима льётся из окна, напоминая о красоте и жажде жизни. Мы будем сидеть в круге света, пока на соседних улицах стреляют бандиты и ножевые раны отправляют людей в небеса. Тише, тише, никто сюда не ворвётся. Слушайте дети, колючая проволока на заборе крепкая, а дедушка подвёл к ней ток.
Со мной всегда творились разные чудеса. То радио включалось само собой, и начинала вещать запрещённая волна, то комната, закрытая отцом снаружи, сама собой наполнялась фруктами.
Мы оказались в классе наедине с незнакомым языком, так я в три дня научилась понимать его каким-то чувством. Одноклассники же сидели, выкатив глаза, и пытались не сойти с ума в потоке чужих слов. После школы они кидали в меня сухую грязь. Я шла и думала: «Пусты мои знания, и пуста их злость». Уже тогда будущее мальчиков покрывала пыль шахт, будущее девочек пахло тряпками на задворках богатых вилл. Такой же запах имеет и ваше будущее, дети, если до утра ничего не изменится.
Так вот, со мной всегда случались чудеса. Я и сама была чудом, родилась, когда родителям было уже больше полувека, и они устали ходить по колдунам и пророкам.
Чтоб понравиться силам, которые раздают людям детей, словно сухое молоко гуманитарной помощи, мама и папа сами помогали бедным. Скоро, правда, кто-то пустил слух, что вещи и еда от них приносят несчастья.
Мама смотрела на шумные, мохнатые гнёзда ткачей, свесившиеся с телеграфных столбов. Она скорбела от того, что её гнездо пусто. У ровесников её уже появлялись внуки. В конце концов, мама смирилась с одиночеством. Продолжала вязать беднякам кофты, оставляя их в сумерках под дверями домов. Однажды она узнала, что ждёт меня. Люди засмеялись: «Такая старая».
Режим заставил меня варить сорговое пиво, хотя я давала другие надежды. В три года я уже читала книги, не то что вы, дети пыли. Была послушной и прилежной, про меня говорили: «Она расправит крылья!». Носила я тщательно выглаженные платья и светлые гольфы. На людях мои глаза были спрятаны под ресницами. И вдруг беременность – настоящий скандал для округи.
Тши-тши-тшитшитха, тшитши-тшитшитха шаркали мои туфли по песку. Я шла к нашему старому дому, которому предстояло стать трухой на свалке эпохи. Тши-тши-тшитшитха шаркали туфли. По Столовой горе бежали тени облаков. Десятки глаз пялились на огромный живот позора, в затылок скребли разные слова:
– Надо же, кто бы мог подумать! Такая приличная, образованная семья.
– Могла стать человеком, а теперь её и в служанки не возьмут.
– Угораздило же её с кем-то спутаться, ударить бы лицо тому парню.
Судхе, моей подруге – индианке запретили говорить со мной (мы сошлись снова уже взрослыми женщинами во время режима, когда её семья дала мне работу). Дни в школе превратилась в поток лавы и пепла. Безволосые малайские девочки хихикали на меня из своих платков, как из круглых окон. Родители страдали, родственники стыдились ходить в наш дом. Больше всего на свете, я хотела вернуть всё, как было, и стать нормальной. Но духи сказали нести мою ношу.
Да, так и сказали. В ту ночь, мне снились, как красные флаги с мачете и молотком реют над кварталом. Потом я увидела свет в маленьком окне деревянной пристройки, в которой всегда спала. Свет сочился через москитную сетку, синий, перемешанный с крошечными звёздами. Прекрасный человек не белый и не чёрный, а весь состоящий из сияния вошёл в окно. Он был высокий и незабвенный.
– Скоро станешь матерью, – вот что он сказал.
Я сказала:
– Эй, у меня даже мужа нет, я учусь в школе, мне нужно сдать экзамен, мне нужно в колледж.
Он сказал с грустью, этот ангел:
– Милая, колледж станет недостижимой мечтой, а быть матерью волшебного дитя – другое дело!
Я хотела ещё возразить, но тут же уснула сладко, как в пене облаков. Наутро меня скрутило, и мама испугалась, что у меня жёлтая лихорадка. В больнице ей объяснили, что со мной. После чего мама тридцать дней не смотрела в мою сторону и не говорила мне хоть какого-нибудь слова. Даже есть звала стуком ложки по столу.
Тши-тши-тшитшитха, тшитши-тшитшитха шаркали мои туфли по песку. Я шла к нашему дому. Плотник с соседней улицы сидел с родителями на веранде. Красивый он был мужчина, кофейный с седыми волосами, с лицом, на котором остановилась гордость. Я его знала, конечно, и подумала, что родители заказывают мебель. Что-то из тех стульев или кроватей, которые он выставлял на дорогу, с резными птицами, розами, жирафами, обезьянами, карабкающимися по извилистым деревьям.
– Ты будешь жить в доме этого человека, – сказал отец.
– Он согласился взять тебя, в таком положении, – добавила мама.
– Ещё один ребёнок, – сказал плотник с улыбкой, но грустным голосом, когда мы шли к нему на соседнюю улицу.
В глазах его застряли частицы света от ночи, когда прилетал дух, обещавший мне материнство. Я тащила свой чемодан с вещами, переставляя ноги, как пингвин с побережья. Я поняла, что под ребёнком он имеет в виду меня.
Когда мы вошли в дом, стайка невесомых детей пересекла комнату. Они были похожи на моль, эти дети. Мальчик в огромном пиджаке, чьи рукава волочились по полу и девочки в кружевных бежевых платьях времён Великого трека. Они пролетели, оставляя в воздухе золотистую пыльцу.
Да, плотник, конечно, дедушка. А дети – ваши родители, погибшие вот за эту свободу, где мы снова прячемся за колючей проволокой. Вы спрашиваете, что лучше. Я говорю – мир лучше, только мир.
В доме было тихо, пахло свежим деревом, стружкой. Стайка детей скользила светлыми комнатами, словно пыль в солнечном луче. На кроватях и столах, на стенах лежала грусть и любовь ушедшей женщины. Её безупречная фотография стояла в гостиной, и всё вокруг скучало по ней.
– Помой детей, – сказал ваш дедушка. – Два года ими никто не занимался.
Я сложила свои вещи в уголок, и закатала рукава. Засунула всех детей в маленькую ванну. Дети доверились моим рукам. Брызги полетели на коричневый кафель.
Потом я убирала дом, варила. Я стирала вещи, они выгорали на солнце. В заботах убегало время. Днём боги держали высокое небо, а ночью, уставшие, ложились на крышу. Дети росли, и рос ребёнок внутри меня.
Мне часто снилось, что я стою в вельде, а сам воздух играет колыбельную на рамкиетджи, струны которой приделаны к канистре для машинного масла. Струны сделаны из тормозного троса, но мелодия их загадочная, нежная.