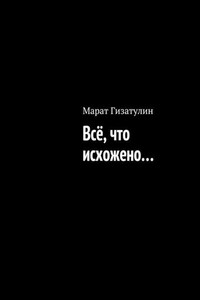Однажды бывший советский пролетарий…
Вот же ведь как бодро начал, но тут же задумался: а правильно ли я слово бывший перед словом советский ставлю? Может, надо перед пролетарием? А то получается, что этот бывший пролетарий вроде уже и не советский. А какой он теперь? И каким чудодейственным способом вдруг так изменился, что уже и не советский?
Рассказывают, что как-то Михаилу Талю его мама, как приличествует всякой уважающей себя еврейской маме, присмотрела невесту. И, объясняя свой выбор, сообщила сыну, что та – бывшая грузинская княжна. На что сын ей ответил, что княжна «бывшей» быть не может, это всё равно что сказать «бывший сенбернар». И вот мне кажется, что советский человек, как и сенбернар, тоже «бывшим» быть не может.
Ну, да бог с ним, с «бывшим», как и со всем советским. В нашем повествовании это большого значения не имеет.
Плохо другое – я так часто от своего любимого пролетария на себя отвлекаюсь, что боюсь, как бы читатель нас путать не стал – где он, а где я. А мне бы этого не хотелось. Он, в отличие от меня, человек пустой и никчемный. Мне за него просто стыдно бывает порой. Я бы так, как он, никогда не поступал бы, я бы убивал таких ещё до советской власти. Но он оказался сильнее.
Поэтому ещё раз хочу подчеркнуть, что мы с ним совершенно разные люди и ни в чём не схожие. Пролетарий мой, например, брюнет, а я, наоборот – астигматик. А ещё он петь любит, а я больше по балету.
Он обычно, как напьётся, головой о стенку бьётся, как правильно заметил всего лишь шапочно знакомый с моим героем замечательный поэт Игорь Иртеньев. А я наоборот – сижу и плачу, сижу и плачу, неизвестно зачем и почему и даже когда не напился ещё, что успел подсмотреть некий зоркий провинциал из Петушков, стремящийся попасть в Кремль.
А мой герой, прежде чем стену обижать, запевал, как правило:
Я теперь вспоминаю, как песню,
Пионерии первый отряд.
Вижу снова рабочую Пресню
И знакомые лица ребят,
Красный галстук из скромного ситца,
Первый сбор, первый клич «Будь готов!»
В синем небе я вижу зарницы
Золотых пионерских костров.
Его за этот юношеский задор однажды аж на праздник детский затащили, но это было уже совсем в другой стране и даже совсем в другой жизни, и ему даже кажется, что и на другой планете. Надо же было так напиться!
Ну так и я же, и Рязанов говорили ему неоднократно: пить надо меньше! Или хотя бы надо меньше пить.
В школе, где учились его многочисленные дети, постепенно и практически безболезненно забывающие русский язык, как-то праздник Хэллоуин случился.
К вечеру на большое поле перед школой съехались папы и мамы со своими чадами. Их машины выстроились в две ровные шеренги, и все багажники смотрели в образовавшееся между рядами пространство метров в пятьдесят шириной. Штук сто авто собралось. Из них выходили окровавленные или с трупными пятнами, но счастливые пассажиры, открывали багажники своих машин, а там – трупы, скелеты, черти, ведьмы и прочая кладбищенская атрибутика или нечистая сила. Но всё так красиво оформлено!
Дёрнул же меня чёрт сюда притащиться, – подумал незадачливый бывший советский пролетарий! – Поддался на уговоры своей молодёжи. И что мне здесь делать, если у меня в багажнике ничего интересного, кроме сломанного велосипеда и очков для подводного плаванья без одного глаза, нет? И сам я одет не по-праздничному – стыдился он – а в обычном своём строгом одеянии, то есть майка, шорты и шлёпанцы. Я же не знал, как у них тут чего делается…
Но его молодёжь, ничуть не смущаясь отсутствием у себя какой-нибудь косы (которой косят) или метлы (на которой летают), или хотя бы выпавшего из глазницы глаза (который весело болтается по всей морде), принялась весело бегать по полю, наблюдая за приготовлениями опытных хэллоуинистов.
Громко играла музыка.
Наконец, все подготовились. Трупы и ведьмы разложили в открытых багажниках среди черепов и расчленёнки какие-то красивые конфеты и пирожные и встали на защиту своего добра. А детишки, вооружившись пакетами, мешками и корзинами, стали бегать по всему полю от машины к машине, с боем добывая лакомства. Хозяева с притворным ожесточением защищали своё добро, но детишки побеждали. И даже трёхлетняя пролетариева лялька, опешившая поначалу, уже через минуту, позабыв про папу и маму, атаковала ближайший вертеп. А через пять минут и вовсе скрылась из виду.
Хохот и визг стояли невообразимые. Учителя в своём буйстве не уступали ученикам.
В общем, весь этот шабаш напугал только нашего бывшего советского пролетария. Даже не напугал, а расстроил. Он недоумевал, несчастный – почему они так неправильно празднуют? Почему не маршируют с гордо поднятой головой и не поют, например, это:
Мы шли под грохот канонады,
Мы смерти смотрели в лицо.
Вперёд продвигались отряды
Спартаковцев, смелых бойцов.
Или хотя бы это:
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы – пионеры, дети рабочих!
Почему они так безудержно веселятся – и дети, и взрослые?! Почему он никогда не мог так веселиться?
Или мог и забыл? Неужели мог? Да нет, помнит же он, как учили их, что проявление бурной радости – это постыдно. Смех без причины – признак дурачины. Делу время – потехе час. Да и какие там были потехи – где-нибудь за школой, где учителя не видят?
А у этих – сплошная потеха. Они и на уроках веселятся – вместо того, чтобы зубрить таблицу умножения. И учителя вместе с ними веселятся.
Неправильно они как-то детей учат. Меня вот шесть лет в школе и пять лет в институте самым серьёзным образом учили английскому языку, – угрюмился пролетарий – показывали, как правильно прислонить язык к зубам, чтобы произнести определённый артикль thе, – и всё впустую. А эти… Никто здешних детей не учит, как правильно прислонять язык, а они тараторят на чистейшем английском, не задумываясь о зубах.
Неправильно всё как-то… И несправедливо.
– На нашей планете было лучше… правильней, – сказал вслух сам себе пролетарий и не в силах больше справиться с нахлынувшими воспоминаниями и эмоциями бегом поспешил с поля.
Туда, в темноту, подальше от ярких прожекторов и громкой музыки. Чтобы не напугать никого и не испортить праздник своим лицом. А то ведь они, глупышки, ничего страшнее тыквы с дырками вместо глаз и носа не видели.
И слава богу!