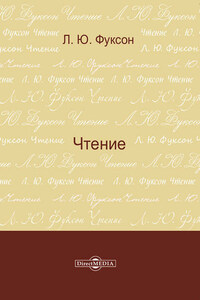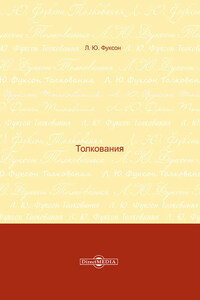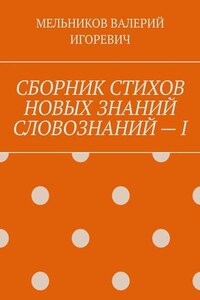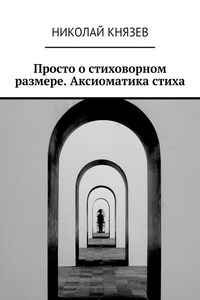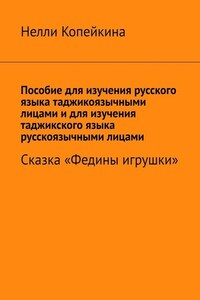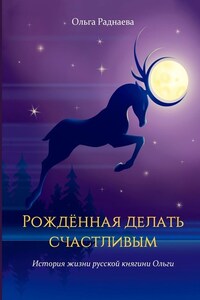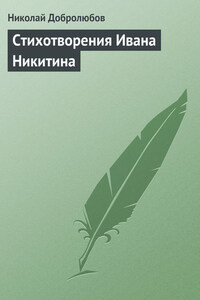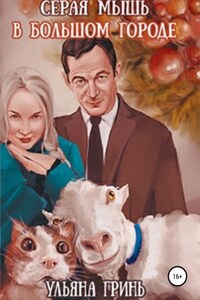Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь …
А. Пушкин
Если я хочу, чтобы дверь отворялась, петли должны быть закреплены.
Л. Витгенштейн
Реальная наша жизнь представляет собой постоянную разорванность уже налично действительного и ещё возможного. Настоящее осуществление каких-то возможностей, то есть переход их в статус действительности, не устраняет этого разрыва, так как продолжение жизни означает возникновение новых возможностей. Говорят в связи с этим о постоянно меняющемся смысловом жизненном горизонте и о напряжённом несовпадении наличного бытия и смысла. Это обстоятельство заставляет в очередной раз вспомнить аристотелевскую мысль о назначении поэзии. Если, по Аристотелю, поэт, в отличие от историка, говорит не о «том, что было», а «о том, что могло бы быть» (См.: Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 655), то это вовсе не означает, будто поэзия – сфера лишь возможного, а не действительного. В аристотелевской формулировке важно понятие бытия, то есть момент осуществлённости возможности как сбывшегося смысла. Поэзия (и искусство вообще) как раз преодолевает указанный разрыв благодаря созданию другой – параллельной, вымышленной – реальности, где то, что «могло бы быть», дано именно как сбывшееся, но сбывшееся в жизни другого – героя. Эта вымышленная реальность может существовать, как известно, лишь благодаря усилиям воображения читателя (зрителя, слушателя).
Известные строки Пушкина, взятые нами в качестве эпиграфа, точно схватывают ситуацию чтения художественного произведения, в которой соединяются «вымысел» и самые что ни на есть настоящие, «всамделишные» слёзы, то есть возможность и действительность, взятые уже по отношению не к герою, а к читателю. Причём «слёзы» вовсе не обязательно указывают на печальный характер «вымысла». Это знак того, что искусство – нечто захватывающее, трогательное в широком смысле слова, прорывающееся в сферу бытия. Уместно здесь вспомнить, как Печорин накануне дуэли, открыв «Пуритан» В. Скотта, «читал сначала с усилием», но потом «забылся, увлечённый волшебным вымыслом». Забыться, конечно, вовсе не означает оказаться за бытием, по ту сторону бытия. Это указывает на то, что искусство «отключает» лишь заботы обыденной жизни (даже такие важные, как предстоящая дуэль) и совершенно реально увлекает читателя в другое (не наличное) измерение бытия. В преодолении обычного жизненного разрыва идеального и реального, игры и действительности как раз и состоит художественная «гармония», которой «упивается» читатель.
Чрезвычайно существенно то, что чтение (и художественное восприятие вообще) – это не «простое» переживание воображаемого, а понимающее, толкующее: ведь предмет его – вы-мысел – смысл. При этом непрерывную работу толкования, которая осуществляется в чтении художественных текстов, нельзя путать с научным анализом. О строгом различении «понимания и научного изучения» писал Бахтин (Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 349). Это не исключает возможности интеграции анализа и истолкования, но – как принципиально различных акций, целью одной из которых является объяснение «устройства» структуры произведения, а с другой – понимание его смысла. Определение Ю. М. Лотманом стихотворения как «сложно построенного смысла» (Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 88) совершенно справедливо утверждает единство смысла художественного произведения и его структуры. Однако это неправильно было бы понимать как тождество. Поэтому анализ, направленный на «построенность» произведения, сам по себе не открывает смысл. Смысл обнаруживает только интерпретация. Часто сам анализ понимается расширительно – с включением в него и истолкования. Но это затушёвывает специфику герменевтических процедур и правил, а также – специфику самого анализа в точном смысле этого слова. Вопросы научно-специального анализа проецируют общие понятия на текст. Вопросы понимания обращены к тексту непосредственно: сам текст опрашивается. Научный анализ – это прежде всего разложение целостного художественного впечатления на объективную действительность с её различными аспектами и субъективную исследовательскую установку, регистрирующую эти аспекты и их взаимосвязи. Сама аналитическая акция осуществляется при молчании произведения. Чтение же – это как раз акт звучания произведения. Литературное произведение отнюдь не только то, что произведено (автором), но и то, что производит (читателя). В момент звучания слова произведения читатель, не как потенциальный (умеющий читать), а как реальный, и производится.
В предлагаемой книге речь идёт именно о чтении как об особой – неспециальной – установке по отношению к художественным текстам и об усилиях преодоления своего рода герменевтической беспомощности, присущей любому читателю. Дело заключается не в научном изучении читаемых текстов, а в читательской рефлексии, в оглядке на то, как мы читаем.
Одно из фундаментальных положений современной герменевтики состоит в том, что понимание укоренено в предшествующем опыте, никогда не начинаясь, «с нуля», так сказать. По мысли Гадамера, «… проблеск смысла (…) появляется лишь благодаря тому, что текст читают с известными ожиданиями, в направлении того или иного смысла» (Гадамер Г. – Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 75). В своих «Лекциях по структуральной поэтике» Ю. М. Лотман употребляет очень точное выражение: «априорно заданная структура ожидания», описывая ситуацию похода в кино и тех «контуров ожидания», которые «складываются из внешнего вида афиши, названия студии, фамилий режиссёра и ведущих артистов, определения жанра, оценочных свидетельств ваших знакомых, уже посмотревших фильм, и т.д.» (Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 221). Это очень близко понятию читательского «горизонта ожиданий», введённому в литературоведение Х. Р. Яуссом (См.: Яусс Х. Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 60). Степень определённости этой структуры смыслоожидания может быть различной. Можно представить себе ситуацию, когда мы ничего не знаем о книге, кроме того, что она художественная. Определяет ли это хоть как-то читательский настрой? На этот вопрос мы бы ответили утвердительно. По-видимому, имеются более общие, априорно заданные аспекты структуры предпонимания, связанные с ожиданием не какого-то определённого произведения искусства, а искусства как такового. Понятие a priori означает здесь не некую теоретическую «приправу» к восприятию художественных произведений, а лишь то, что любое из них дано нам именно как художественное и тем самым в горизонте непреложных «правил», определяющих саму возможность художественного восприятия. Нами имеются в виду существующие до каких-либо суждений о литературе и восприятия текстов читательские установки как сами собой подразумевающиеся.